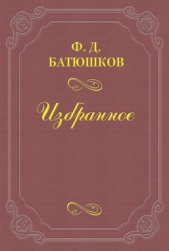Психология литературного творчества
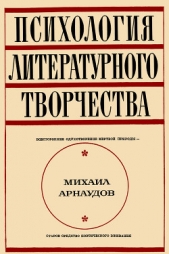
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Крайне поучительный пример Эдгара По находит своё подтверждение в практике писателей различных эпох.
Как внимательно относился Данте к архитектонике своей «Божественной комедии», мы поймём, изучая эту поэму. Стараясь устранить всякую беспорядочность, все излишние подробности, поэт обдумывал и учитывал мельчайшие особенности языка и стиля, ритма и рифмы, не забывая подчеркнуть вероятность даже невероятного. Именно на примере творчества Данте видна полная ошибочность мнения о «фатальном» вдохновении. Ничто у него не отдано во власть случайности, во всём он руководствуется строгим методом, всё поставлено на службу высокой цели [960].
Совместимость вдохновения и художественного разума защищают самым категорическим образом и некоторые современные авторы, например драматург Кюрель и лирик-философ Валери.
Кюрель приписывает обдумыванию, нахождению, сообразованию такое же значение при открытии сюжета и развитии характеров, как и воображению. Его воображение рисует такую ситуацию: женщина совершила преступление, она пыталась убить своего мужа и поэтому заключена в тюрьму, собственно не в тюрьму, а помещена в больницу, поскольку её близкие считают её помешанной. Доктор, знающий правду, предоставляет ей некоторую свободу. Однажды она убегает, чтобы повидаться со своими детьми. Няня со страха начинает кричать, боясь как бы она не причинила зла детям; прибегает муж, пытаясь ей помешать… Такова первая идея. Автор начинает размышлять о ней. Он находит, что у него отсутствуют известные медицинские и юридические познания, чтобы полностью и правдиво развить эту идею, но всё же она не покидает его. Он спрашивает себя, что, собственно, может его интересовать в подобном материале, и, занимаясь проблемами психологии личности, находит, что его интересует возвращение женщины в среду, которую она давно покинула, после того как она долгое время жила в другой среде и вышла оттуда с обновлённой душой; но разве нет другого способа показать этот перелом, не прибегая к сумасшествию и к больнице? И разум отвечает: да, монахини точно так же обособлены от мира, как душевнобольные. Автор обращается к монастырской жизни. Его воображение быстро рисует женщину, которая после совершения преступления становится монахиней, чтобы скрыть содеянное ею и покаяться. И дальше то же самое воображение раскрывает перспективы, заманчивые для драматурга. Автор мыслит себе девушку, которая когда-то в бессознательном состоянии пыталась убить жену человека, которого любит: потом она уходит в монастырь и двадцать лет живёт вдали от мира. Однажды она узнаёт, что мужчина, некогда ею любимый, умер. И то ли из жажды свободы, то ли ради любопытства, она возвращается из изгнания в свою среду и встречается с вдовой… Такова новая идея драмы, или, вернее, её завязка. Мало-помалу автор получает и целостное представление о пьесе, не зная ещё как следует ни художественных средств, ни образов. И пока воображение занято поисками средств, места действия, характерами, разум подсказывает необходимость ввода новых деталей или подчёркивает мотивы известной смены в чувствах и т.д. Так постепенно (мы оставили в стороне множество подробностей, о которых автор отдаёт себе отчёт) возникает план драмы «Изнанка святой», писавшейся с 5 по 25 мая 1891 г. [961]
Этот план, родившийся благодаря сотрудничеству воображения с разумом, начинает осуществляться. У автора наступает в этот период известное раздвоение. С одной стороны, он перевоплощается в своих героев и таким образом отгадывает, что они скажут и что совершат в каждый отдельный момент; с другой — он всегда сохраняет «сознание того, что он является господином плана, философских идей, стиля, колорита и прочего». Он обсуждает эволюцию героя, заботится об упрощении фактов, соблюдении условностей и исправляет каждые 5—6 строк, критикуя то, что так быстро писалось. «Я, — говорит он, — как провидение, которое управляет своими созданиями, не уничтожая их свободу».
Значит, при обсуждении материала и при воплощении его огонь вдохновения не убил у автора ни сознания собственного «я» — оно по-прежнему живо и позволяет ему прерывать писание и говорить с реальными людьми, думать о посторонних вещах, — ни способности контролировать и корректировать выполнение. Воображение и разум идут рука об руку, не мешая друг другу, что, оказывается, имеет существенное значение для постоянного притока образов, столь необходимых для осуществления первоначального замысла.
К писателям нового времени, которые особенно подчёркивают интеллектуальное начало в творчестве, относится и Поль Валери. Подобно Леонардо да Винчи [962] и Эдгару По, он считает знание и творчество, разум и воображение одинаково необходимыми, более того, первое — даже предпосылкой второго и верит, что термин «творчество» (création) для произведения искусства не более чем сравнение. Как поясняет критик Поль Суде в своём очерке о Валери: «Художественное произведение не является творчеством (разве только метафорически, ибо мы не знаем, что значит творить); скорее оно является построением, где анализ, учёт, обдумывание играют первостепенную роль» [963]. Или, как говорит сам Валери, ссылаясь на Лафонтена: «Настоящее условие творчества для подлинного поэта — это нечто весьма отличное от состояния мечтательности. Это добровольные искания, гибкость мысли, согласие души с приятными затруднениями и нескончаемый триумф самопожертвования… Это точность и чувство стиля, то есть нечто прямо противоположное сну» [964]. Вот почему так восхищается Валери «сочетанием критического разума и поэтических добродетелей» Бодлера [965]. Работа мысли в свете сознания и заботы о стиле и других формальных или идейных сторонах произведения плодотворно взаимодействует с иррациональным и интуитивным в творческой деятельности. Подобно Флоберу, Валери восклицает: «Да хранят нас боги от пророческого беса. В этом самозабвении я усматриваю плохую работу машины — несовершенной машины. Хорошая машина молчалива… Надо творить без крика» [966].
Джек Лондон описывает свой метод работы в романе «Мартин Иден» в форме исповеди героя. Стремясь уяснить себе процесс творчества, анализируя чужие произведения, Мартин, сам писатель, хочет понять, разобраться, как достигается там определённый уровень мастерства, поскольку только так он сам в состоянии создать что-либо подобное. И автор продолжает: «Мартин мог работать только сознательно. Такова была его натура: он не мог работать, как слепой, не зная, что выходит из-под его рук, полагаясь только на случай и на звезду своего таланта. Случайные удачи не удовлетворяли его, он хотел знать, «как» и «почему». Его творчество было творчеством осмысленным, и, принимаясь за рассказ или стихи, Мартин уже держал в голове план всего произведения… С другой стороны, он воздавал должное и тем случайным словам и сочетаниям слов, которые вдруг ярко вспыхивали в его мозгу и впоследствии с честью выдерживали испытание, не только не вредя, но даже способствуя красоте и цельности произведения. Перед подобными находками Мартин преклонялся с восхищением, видя в них проявление чего-то большего, чем сознательное творческое усилие… Он давно уже приучил себя хорошенько вынашивать, додумывать до конца каждую рождавшуюся у него мысль и затем излагать её на бумаге» [967].
Так же думал, судя по его собственной исповеди, и Йордан Йовков. Ссылаясь на вышеприведённое высказывание американского романиста, Йовков сообщает, что рассказ Мартина Идена полностью соответствует тому, что он наблюдал у самого себя. Он не начинает писать до тех пор, пока не «проложит» дорогу, по которой ему предстоит идти. Но ему знакомы вопреки старательному обдумыванию «эффекты счастливой моментальной догадки» [968].