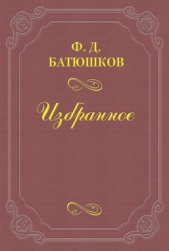Психология литературного творчества
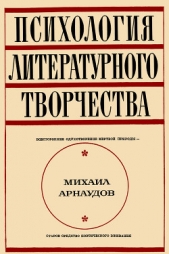
Психология литературного творчества читать книгу онлайн
Данный фундаментальный труд подводит своеобразный итог многолетним исследованиям автора по вопросам психологии художественного творчества и самого творческого процесса прежде всего с точки зрения личности творца художественного произведения, его опыта, его умения воспринимать и наблюдать, его творческого воображения, способности к вживанию и т.д.
Большим достоинством настоящего издания является то, что при его подготовке автор в значительной мере устранил спорные положения, идеалистические толкования отдельных авторов, обогатил и уточнил многие ключевые мысли с точки зрения более последовательного реалистического толкования творческих процессов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И в своём стихотворении 1916 г. «О песни!» с эпиграфом из Гюго «Встань, мыслитель!» он пишет:
Своим близким Вазов признавался: «Не хочу писать, но, когда меня какой-то бес толкает, не могу устоять, вскакиваю среди ночи и пишу». Работал он чаще всего с 2—3-х часов ночи, переходя в свой кабинет и оставаясь до 6 часов утра за столом, много курил. На ночном столике всегда лежала записная книжка, в которую он записывал всё, что приходило на ум [885]. В стихотворении «Сумерки» он говорит о том, как приветствовал утро «песнями, зачатыми во сне», которые тут же записывал; в двух других стихотворениях из сборника «Благоухает моя сирень», он рисует картину своего ночного труда. «Лик даю мечте последней — скоро — утро уже дышит!». Или: «Рассвет застал опять за столом… И конец ночному труду… Мысли рассеиваются» [886]. О периоде создания военных песен 1912—1917 гг. Вазов говорил своему другу проф. Шишманову: «Я доволен, что внутреннее напряжение не терзает меня и не будит ночами, чтобы я излагал свои поэтические мысли на бумаге. Теперь отдыхаю, наблюдая жизнь природы» [887].
Мучительный порыв вдохновения испытывают чаще всего ночью, потому что ночью уходят дневные впечатления и заботы, наступает успокоение и открывается простор поэтическому настроению и новым образам. Учитывая динамику последних, лирик-драматург Фридрих Геббель отмечает: «Гений искусства хватает человека за волосы, как ангел Габакук, поворачивает его к востоку и говорит ему: рисуй, что видишь. И человек, дрожа от страха, делает это» [888]. В другом месте Геббель поднимает этот творческий императив до единственной нормы творчества: «Если какое-то из человеческих чувств охватит тебя, не давая тебе покоя, и ты должен его высказать, чтобы освободиться от него, чтобы оно не раздавило тебя, только тогда ты имеешь право писать стихотворение и ни в каком другом случае» [889]. Или как говорит Толстой в письме 1890 г.: «Писать надо только тогда, когда чувствуешь в себе совершенно новое, важное содержание, ясное для себя, но непонятное людям, и когда потребность выразить это содержание не даёт покоя» [890].
Этим исповедям и указаниям противостоят свидетельства о труде по доброй воле, о точности и регулярности исполнения, которые, казалось бы, исключают вдохновение. Точнее вдохновение послушно сознанию. Активность воспринимается как дело твоего «я»; никакого принуждения извне, свободный выбор, самообязывающий труд. Теофиль Готье в состоянии импровизировать стихи когда пожелает: он является господином своих тем и идей, он виртуозно владеет формой и, поскольку его лирическое творчество сводится к бесстрастному созерцанию прекрасного, его вряд ли можно считать медиумом, подчинённым иным, более высоким силам. Бодлер находит в нём «точность часового механизма», а друг его Максим Дюкан рассказывает, что он написал свои «Эмали и камеи» только для того, чтобы отвлечься от тяжёлого настроения. Но сам Готье чувствовал, что подлинное искусство всё же находится в прямой зависимости от счастливых часов, над которыми мы не властны. Для создания гениальных вещей нужно вдохновение, приобщающее поэта к неземному: «Поэзия, — пишет он в 1857 г., — не есть постоянное состояние души. Одарённых поэтическим даром время от времени посещают боги, одна воля бессильна. Единственный среди тружеников, поэт не может быть усердным, его работа от него не зависит» [891].
Очевидно у Готье имеется раздвоение. Он способен к двум видам поэтического творчества: в одних случаях, и они самые желанные и естественные для поэта, он пишет о том, что внезапно является ему и побуждает его к творчеству. В других — он творит по соображениям, ничего общего не имеющим с самим искусством: он берёт в руки перо и диктует сам своей музе. Императив тогда идёт не от творческого настроения, а от преднамеренной воли, посторонних интересов и убеждений. И если всё же он создаёт приемлемые вещи, то причина кроется в большом техническом мастерстве и в выборе объективных поэтических мотивов, которые допускают описательный метод.
Такую двойственность наблюдаем мы и у Гёте. В молодые годы он писал только о том, что страстно интересовало его, всегда исходил из состояний, которые с необходимостью навязывали, и часто против его воли, известную работу, в старости он пытается «командовать поэзией» и создавать без помощи пресловутого «беса», «не плывя в том общем потоке, который Аристотель и другие прозаики считают безумием» (письмо к В. Гумбольдту 1/II — 1831г.). Гёте сознаётся, что для завершения второй части «Фауста» прибегал к предумышленной и рассудочной работе, что без неё он не смог бы заполнить некоторые пустоты. И действительно план удаётся выполнить. Но здесь-то и выступают все недостатки спокойно-трезвой импровизации, потому что даже самый великий поэт не может безнаказанно поставить рефлексию и навык на место «вдохновения». Непринуждённое, внутренне завершённое и созданное по вдохновению произведение всегда сохраняет какой-то особый отблеск, которого не имеют детища холодной техники. Интересно, что ещё в 1820 г. Гёте поддерживал необходимость ожидания вдохновения и предлагает писать только после творческого толчка. Он укорял Шиллера за то, что тот защищал свободу воли и дожидался созревания идеи естественным путём [892]. Но в конце жизни побуждаемый желанием завершить свою большую драму, Гёте изменил себе и вернулся к максиме Шиллера. К счастью, этот метод был для него исключением и лишь в некоторых местах нанёс урон художественной ценности его произведений.