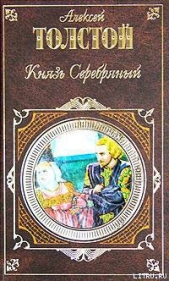Поэтика за чайным столом и другие разборы
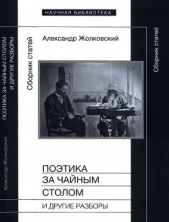
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слезайте / с неба, / заоблачный житель! / Снимайте / мантии древности! / Сильнейшими / узами / музу ввяжите, / как лошадь, / — в воз повседневности («На что жалуетесь?», 1929).
<…> Топос «укрощения/запрягания лошади/Музы» мог обладать для Пастернака особой притягательностью <…> Пережив трагическую смерть Маяковского и размышляя о собственном втором рождении <…> [он] сталкивался с двояким вызовом: <…> научиться по-маяковски наступать на горло собственной песне и впрягать свою поэзию в [советский воз], но <…> делать это по-своему <…>.
[Жолковский 2011а: 308–309]
В романе собственная коллаборационистская culpa не оставлена без внимания, — вот чем кончается отповедь Живаго Дудорову:
«Мне тяжело было слышать твой рассказ о ссылке, Иннокентий, о том, как ты вырос в ней и как она тебя перевоспитала. Это как если бы лошадь рассказывала, как она сама объезжала себя в манеже».
[ч. XV, гл. 7; Пастернак 2003–2005: IV, 479–480]
Сама себя — в духе гоголевской унтер-офицерской вдовы — объезжающая лошадь бьет как по Маяковскому, так и по самому Пастернаку 1931 г. Ретроспективной самокритикой звучит и еще одно «лошадиное» место предсмертной беседы Живаго с друзьями (приведенное нами в первом же разделе): «Разогнавшаяся телега беседы несла их, куда они совсем не желали» [Там же].
Это — вероятная отсылка к знаменитым строчкам из «Когда я устаю от пустозвонства…» (1932):
Мы в будущем, твержу я им, как все, кто
Жил в эти дни. А если из калек,
То все равно:
телегою проекта
Нас переехал новый человек.
[Пастернак 2003–2005: II, 81]
В маске и от имени Юрия Живаго Пастернак сохраняет одни черты своего прошлого облика, но вычеркивает или переправляет другие. По счастливой формулировке биографа,
<…> герой романа сделал в своей жизни все, о чем мечтал и чего не сумел сделать вовремя его создатель: он уехал из Москвы сразу после революции, он не сотрудничал с новой властью ни делом, ни помышлением; он с самого начала писал простые и ясные стихи.
[Быков 2005: 723]
II. О ПОЭЗИИ
«На холмах Грузии…»:[147]
восемь строк о свойствах страсти и бесстрастия
1
Классика на то и классика, что она означает полное признание, абсолютную образцовость — совершенство, ощущаемое безоговорочно, подсознательно, чуть ли не подкожно. Поэтому «классичность» часто обыгрывается именно по линии ее неопознания, — как в анекдотах о часовом, требующем пропуск у начальства, которое надо бы знать в лицо.
Хрестоматиен случай с Остапом Бендером («Золотой теленок», гл. XXXVI):
Слушайте, что я накропал вчера ночью при колеблющемся свете электрической лампы: Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты. Правда, хорошо? Талантливо? И только на рассвете, когда дописаны были последние строки, я вспомнил, что этот стих уже написал А. Пушкин. Такой удар со стороны классика! А?
Эффект еще сильнее, когда узнавание и неузнавание распределены между разными участниками. Вот самолюбивый поэт-дилетант пускается, после отвержения слушателем нескольких его опусов, на трюк:
Прочту последнее стихотворение и кончим диспут, — сказал я. И обведя руками возвышавшуюся над нами Шмидтиху и дальние окрестности, я задекламировал:
На склонах Шмидтихи лежит ночная мгла,
Шумит Норилка предо мною.
Мне грустно и легко, печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой! Волненья моего
Ничто не мучит, не тревожит
И сердце вновь горит и любит — оттого.
Что не любить оно не может.
— Ужасно! — изрек Миша непререкаемый вердикт. — Какое отсутствие вкуса! Тобою, тобой, одной тобой — что за сентиментальное слюнтяйство и какой беспомощный повтор! Нет, Сергей, инженер и физик ты неплохой, а стихи тебе не даются, брось это дело, оно не про тебя.
Лев в восторге катался по траве и, восхищенно хохоча, бил руками по склону сумрачной и громоздкой Шмидтихи. А вдалеке что-то посверкивало — возможно, та самая Норилка, которая шумит, — Арагва ведь была далеко, и ее не было слышно не только милому и доброму моему приятелю Мише Дорошину, но и нам.
[Снегов 2006: 115–116]
Тут ситуация невымышленная, персонажи реальные. Дело происходит в концлагере, в начале 1940-х гг., и «Лев», разделяющий с автором принадлежность к «нам», знатокам канона, — не кто иной, как Лев Николаевич Гумилев[148].
Персонаж, не знающий классику в лицо, не только оживляет ситуацию, но и мотивирует остраненное восприятие шедевра. Вполне по Шкловскому, вместо «узнавания» мы получаем «видение», причем, как водится у Толстого, негативное, разоблачительное — возмущенное безвкусицей, слюнтяйством, поэтической беспомощностью.
Мы, однако, не можем ограничиться радостным хохотом и должны — во имя науки, которую представляем, — попытаться развеять сомнения невежды. Знание, что перед нами шедевр[149], не освобождает нас от этой исследовательской задачи, но по крайней мере гарантирует ей осмысленность. Структурную сукцессивность и тесноту стихового ряда (из знаменитой тыняновской формулы [Тынянов 1924: 39–47]) оно подкрепляет прагматической уверенностью, что о беспомощности тут речи быть не может, что всякое лыко поставлено в строку не случайно и лишь ждет научной экспликации. А места, кажущиеся наивному читателю особенно неудачными (типа повтора тобою, тобой, одной тобой), обещают, согласно Риффатерру [Riffaterre 1978], оказаться «неграмматичностями» (ungrammaticalities) — ключами к глубинному смыслу текста.
2
Ведущая тема поэзии Пушкина — амбивалентное совмещение жизни и смерти, статики и динамики, свободы и неволи, страсти и бесстрастия (см.: Жолковский 2005 [1979]: 13–45]). В некоторых из вершинных образцов его лирики эта амбивалентность доводится до парадоксальности, причем совмещаются не только противоположные состояния, но и противоположные их оценки. «На холмах Грузии…» (1829) — одно из таких стихотворений.
На холмах Грузии лежит ночная мгла;
Шумит Арагва предо мною.
Мне грустно и легко; печаль моя светла;
Печаль моя полна тобою,
Тобой, одной тобой… Унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит — оттого
Что не любить оно не может.
[Пушкин 1937–1959: III, 158][150]
Амбивалентность этого маленького шедевра ощущается читателями и констатируется исследователями, но не всегда осмысляется в полной мере. Почтение к классике часто ведет к акцентированию в ней всего «хорошего» и замалчиванию «проблемного», чем смазывается парадоксальность текста. Так, пишущие об эффектной концовке «Я вас любил…» охотно подчеркивают ее «альтруизм», но приглушают «ревнивое сомнение в возможности обрести другого столь же замечательного возлюбленного» (см.: Жолковский 2005 [1977]: 46–59]). Подобного игнорирования эстетически важной ложки дегтя в бочке меда надо постараться избежать и в анализе «На холмах Грузии…», чтобы за «сентиментальным слюнтяйством» увидеть что-то более интересное.