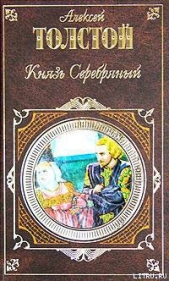Поэтика за чайным столом и другие разборы
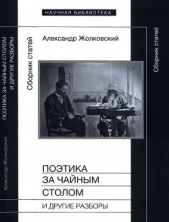
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Три переклички между «Доктором Живаго» и стихами до 1940 года[145]
1
Накануне своего предсмертного «толстовского» ухода Юрий Живаго дает решительную отповедь просоветским увещеваниям друзей. Впрочем, самых сокровенных — и обидных — своих мыслей он вслух не произносит. Но автор, излагающий в 3-м лице ход этого разговора и внутреннего монолога, как всегда, держит сторону любимого героя и высказывается вполне определенно.
Между ними шла беседа, одна из тех <…> какие заводятся между школьными товарищами, годам дружбы которых потерян счет <…>
Гордон и Дудоров принадлежали к хорошему профессорскому кругу. Они проводили жизнь среди хороших книг, хороших мыслителей <…> и они не знали, что бедствие среднего вкуса хуже бедствия безвкусицы.
[Они] не знали, что даже упреки, которыми они осыпали Живаго, внушались им не чувством преданности другу и желанием повлиять на него, а только неумением свободно думать и управлять по своей воле разговором. Разогнавшаяся телега беседы несла их куда они совсем не желали <…> И они со всего разгону расшибались проповедями и наставлениями об Юрия Андреевича.
Ему насквозь были ясны пружины их пафоса <…> механизм их рассуждений. Однако не мог же он сказать им: «Дорогие друзья, о как безнадежно ординарны вы и круг, который вы представляете <…> Единственно живое и яркое в вас, это то, что вы жили в одно время со мной и меня знали» <…> И чтобы не огорчать их, Юрий Андреевич покорно их выслушивал <…>
Добродетельные речи Иннокентия были в духе времени. Но именно закономерность, прозрачность их ханжества взрывала Юрия Андреевича <…> Юрий Андреевич скрывал от друзей и это впечатление, чтобы не ссориться
[ч. XV, гл. 7; Пастернак 2003–2005: IV, 478–479]
Позиция Живаго (и стоящего за ним автора) производит впечатление высокомерного сознания собственной исключительности, вроде бы противоречащего как христианским установкам позднего Пастернака и жертвенного героя его романа, так и метонимическому принципу скромного растворения лирического «я» раннего Пастернака в окружающем мире.
Еще более вызывающим может показаться проглядывающее в евангельских стихах Юрия Живаго самоотождествление с Христом. Так, пассажу о друзьях Живаго, единственно живое и яркое в которых — знакомство с ним, соответствуют строки из «Гефсиманского сада»:
Смягчив молитвой смертную истому,
Он вышел за ограду. На земле
Ученики, осиленные дремой,
Валялись в придорожном ковыле.
Он разбудил их: «
Вас Господь сподобил
Жить в дни мои, вы ж разлеглись, как пласт.
Час Сына Человеческого пробил.
Он в руки грешников себя предаст».
[Пастернак 2003–2005: IV, 547–548]
Как и у Христа в Гефсиманском саду, разговоры Живаго с друзьями — последние перед его смертью. И, наверное, из всех возможных отсылок к Писанию эта — наиболее рискованная с точки зрения гордыни.
Полное неприятие «ординарности» налицо и в «Чуде», тоже от имени Христа и тоже на фоне пренебрежительного отзыва об учениках:
И в горечи, спорившей с горечью моря,
Он шел с небольшою толпой облаков
По пыльной дороге на чье-то подворье,
Шел в город на
сборище учеников
<…>
Смоковница высилась невдалеке,
Совсем без плодов, только ветки да листья.
И Он ей сказал: «
Для какой ты корысти
?
Какая Мне радость в твоем столбняке?
Я жажду и алчу, а
ты — пустоцвет
,
И встреча с тобой безотрадней гранита.
О, как ты обидна и недаровита!
Останься такой до скончания лет».
По дереву дрожь осужденья прошла,
Как молнии искра по громоотводу.
Смоковницу испепелило до тла
<…>
Но чудо есть чудо, и чудо есть Бог.
Когда мы в смятеньи, тогда средь разброда
Оно
настигает мгновенно, врасплох
.
[Пастернак 2003–2005: IV, 541–542]
Может быть, такая избранническая позиция была исключительной особенностью Пастернака эпохи «Доктора Живаго» — плодом его эволюции в сторону подражания Христу, то кроткому, а то и воинствующему? Однако аналогичные «фигуры нескромности» мы встречаем и в гораздо более ранних его стихах, например, в «Смерти поэта» — Маяковского (1930):
Твой выстрел был подобен Этне
В предгорьи трусов и трусих.
Друзья же изощрялись в спорах,
Забыв, что рядом — жизнь и я.
Ну что ж еще? Что ты припер их
К стене, и стер с земли, и страх
Твой порох выдает за прах?..
[Пастернак 2003–2005: II, 64–65]
Если это параллель к мысленной оценке Юрием Живаго его друзей и высказанным вслух упрекам Христа своим ученикам[146], то предвестием испепеляющего проклятия Христом бесплодной смоковницы были строки из стихотворения «Памяти Рейснер» (1926):
…Лишь ты, на славу сбитая боями,
Вся сжатым залпом прелести рвалась.
Не ведай жизнь, что значит обаянье,
Ты ей прямой ответ не в бровь, а в глаз.
Ты точно бурей грации дымилась.
Чуть
побывав в ее живом огне,
Посредственность впадала вмиг в немилость,
Несовершенство навлекало гнев.
[Пастернак 2003–2005: I, 227]
Здесь Пастернак уничтожает презренную посредственность силами — залпами прелести и дымящейся бурей грации — своей героини, снискавшей прозвище «красной валькирии». Это, пожалуй, обеспечивает ему некоторое алиби, вряд ли, впрочем, большее, чем Булгакову отдача квартиры критика Латунского на поток и разграбление временно превратившейся в ведьму Маргарите.
2
Несколькими главками позже процитированной Юрий Андреевич садится в свой роковой последний трамвай. В знаменитом эпизоде его смерти обычно выделяют иронию судьбы, по которой, во-первых, его давнишняя знакомая,
«швейцарская подданная мадемуазель Флери из Мелюзеева, старая-престарая», направлявшаяся «за выездною визою <…> к себе в посольство» и несколько раз привлекшая неузнающий взгляд Юрия Андреевича, «пошла вперед, в десятый раз обогнав трамвай, и <…> обогнала Живаго и пережила его»;