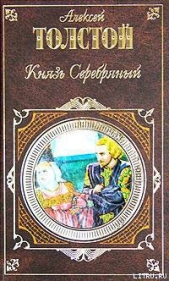Поэтика за чайным столом и другие разборы
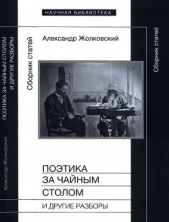
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Игра и мука, перекликающиеся по смыслу и звучанию со строкой о сердечной смуте и образующие последнюю, минимальную группу однородных существительных, доводят до логического конца мотив модальности творческих поисков пути, сердечной смуты и беззаконий. Одновременно подтверждается и их пульсирующая неабсолютность, и некое вневременное дление достигнутого торжества. Эта достигнутость вроде бы означает совершенство, но грамматически и семантически родственная ей натянутость (и тугость лука; кстати, этимологически все три слова родственны[137]), скорее, тяготеют к будущему движению: натянутая тетива обещает полет стрелы. Тем самым в финале воспроизводится, и опять в настоящем времени, лейтмотивная установка на потенциальность движения, заданная в хочется дойти. А одинаковое число ударений в длинных и коротких строках (везде по два) как бы окончательно взаимно уравновешивает — уравнивает в правах — суть и ее проявления.
Рифмы на У замыкают композицию всего стихотворения, а рифмы на А напоминают о срединных строфах.
Тетива — это еще один эмблематический образ (как сердцевина, а также нить, с которой тетива перекликается и пластически), еще одно сравнение (как как сад), еще одна броская синекдоха (как локти и ладони). Образ тетивы эффектно оркестрован многократно повторенными, часто предударными т/д (напоминающими о I строфе), контрапунктом к которым служат г/к в четных строках; в последней строке т, г, и к встречаются. Парономастическими отзвуками слова тетива полна вся строфа: дасТИгнуТАВА ТАржИсТВА наТЯнуТАя ТИТИВА ТугоВА… Впрочем, наряду с этим здесь происходит и замыкание длинной фонетической цепи, варьирующей суть: доСТигнУТа-ва таржиСТва[138].
Синекдохичность, как мы помним, тесно связана с мотивами, с одной стороны, ноуменальной сути, а с другой — ее внешних, феноменальных проявлений. Тетива синекдохична по отношению не только и не столько к луку (который ведь упомянут и впрямую), сколько к тому деятелю, который имеет дело с этим луком, но — в соответствии с принципом синекдохи — исключен из финальной картины. Какого же рода деятель там подразумевается?
Можно мыслить лук и тетиву как конечный продукт творчества, то есть результат изготовления мастером, который натянул тетиву на собственно лук (на, выражаясь терминологически, два плеча его древка) и, так сказать, отошел в сторону. Тогда налицо, действительно, полное достигнутое совершенство и полный покой, и ни о каких стрелах речь не заходит.
Соблазнительнее другое истолкование, подсказываемое литературной традицией: тетива, которую натягивает в процессе выстрела эпический герой, например, Одиссей, удостоверяющий таким образом свою личность и карающий противников — женихов Пенелопы («Одиссея», XXI–XXII). В этом случае натянутость неподвижной тетивы оказывается потенциально гораздо более динамичной (более непосредственно чреватой действием) и более синекдохичной (скрывая в себе больший набор актантов). Сила оттягивания тетивы (на этот раз в форме не прямой линии, а напряженной кривой с вершиной, зажатой в руке стрелка), ее игра и мука проступают тогда много драматичнее. Заметим, что Пенелопа подпадает под излюбленный пастернаковский тип «пленной красавицы»[139].
Собственно, это второе прочтение практически включает в себя и первое. Дело в том, что, как явствует из перипетий XXI главы «Одиссеи», испытание, не выдерживаемое соперниками Одиссея, состоит не только в том, чтобы, оттянув тетиву, поразить стрелой трудную цель, но, прежде всего, в том, чтобы натянуть/навязать тетиву на — в переводе Вересаева упругий и гладкий (то есть исходно прямой), а в переводе Жуковского — тугосгибаемый и сгибаемый туго лук (= его древко). Одиссею последовательно удается и то и другое, после чего он успешно простреливает двенадцать колец на поставленных в ряд двенадцати секирах.
Довольно-таки неожиданное появление лука и тетивы в заключительной строфе в действительности хорошо подготовлено. Сигнал к оркестровке на т/д и у подан словом этюды[140]; игра и мука, возникающие вслед за строфой о Шопене, звучат отсылкой к соответствующим образам пастернаковского стихотворения 1931 г. «Опять Шопен не ищет выгод…», в частности образам пианистическим, подразумевающим, как и натягивание тетивы, работу пальцев:
Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?
Мотив рук под сурдинку проходит в стихотворении неоднократно, ср.: схватывая нить, локтях, ладонях, сенокос, вложил; пластически тетиву предвещает не только 9нить, но и образ 26жилок (традиционно тетива делалась из животных жил).
Вероятным ассоциативным мостиком между заключительной строфой и предыдущей является сравнение лука с музыкальным инструментом, приводящее к благословению Одиссея Зевсом (Песнь XXI, ст. 405–415, перевод В. А. Жуковского):
Так женихи говорили, а он, преисполненный страшных
Мыслей, великий осматривал лук. Как певец, приобыкший
Цитрою звонкой владеть, начинать песнопенье готовясь,
Строит ее и упругие струны на ней, из овечьих
Свитые тонко-тягучих кишок, без труда напрягает —
Так без труда во мгновение лук непокорный напряг он.
Крепкую правой рукой тетиву потянувши, он ею
Щелкнул: она провизжала, как ласточка звонкая в небе.
Дрогнуло сердце в груди женихов, и в лице изменились
Все — тут ужасно Зевес загремел с вышины, подавая
Знак; и живое веселие в грудь Одиссея проникло:
В громе Зевесовом он предвещанье благое услышал
[141]
.
Натянутая струна/тетива роднит художника с героем, свидетельствуя, что их торжество желанно небесам[142]. А богатство опущенных, но подразумеваемых интертекстуальных смыслов повышает степень синекдохичности образа, делая тетиву образцовым эмблематическим тропом, — в духе известной формулировки Пастернака о метафорике как программной «скорописи духа»[143]. Более того, уже в древнегреческой философской традиции, от Гераклита до Платона и далее, лук и лира служили хрестоматийным воплощением гармонии как единства противоположностей[144], к чему, по-видимому, отсылает непосредственно строка об игре и муке, а в более общем смысле — разрабатываемая на протяжении всего текста диалектика одновременно абстрактной и конкретной сути.
Действительно, синекдохический финал примиряет противоположные установки на голую суть законов, начал и инициалов и на живое чудо дрожащих жилок. Метания между поисками абсолютов и беззаконьями страсти венчает диалектический синтез — эмблема воплощенной мощи, остановленной в ее потенциальном порыве. При этом очевидно, что стихотворение в целом вовсе не соответствует идее некой кристально ясной сути. Это не восемь строк о ее свойствах, не выжимка, а причудливый, не без извилин и нечаянностей, лирический сюжет (путь) длиной в десять строф. Более кратким и стройным стихотворение на тему о сложной системе уравнений, связывающих вневременную платоновскую суть с ее преходящими манифестациями, разнообразной человеческой ограниченностью и призванной преодолеть всю эту смуту творческой силой, быть и не могло.