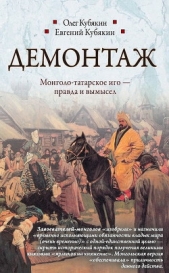Синтез целого

Синтез целого читать книгу онлайн
В книге определяются пути развития лингвистической поэтики на рубеже XX–XXI веков. При этом основной установкой является заглавная идея «синтеза целого», отражающая не только принцип существования художественных текстов и целых индивидуально-авторских систем, но и ведущий исследовательский принцип, которому следует сам автор книги. В монографии собраны тексты, написанные в течение 20 лет, и по их последовательности можно судить о развитии научных интересов ее автора. С лингвистической точки зрения рассматриваются проблемы озаглавливания прозаических и стихотворных произведений, изучается феномен «прозы поэта», анализируется эволюция авангардной поэтики с начала XX века до рубежа XX–XXI веков. Для анализа привлекаются художественные произведения А. Пушкина, Ф. Достоевского, В. Набокова, Б. Пастернака, М. Цветаевой, Д. Хармса, Л. Аронзона, Е. Мнацакановой, Г. Айги и многих других поэтов и писателей XIX–XXI веков.
Книга имеет междисциплинарный характер. Она предназначена для лингвистов, литературоведов и специалистов широкого гуманитарного профиля.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Однако попробуем ответить, кто есть Цинциннат, вернувшись назад от личинки к образу бабочки. Ведь, по Набокову, «смерть не есть конец, а лишь промежуточная стадия, период развития личинки» [Бетея 1991: 170].
Н. Букс, оспаривая мнение большинства исследователей Набокова, которые видят в Цинциннате поэта, считает, что в этом образе писатель пародийно отобразил Н. Г. Чернышевского (которому посвящена большая часть «Дара») [Букс 1998: 120 и далее]. Однако, как это прекрасно показал в своей статье «Владимир Дмитриевич, Николай Степанович, Николай Гаврилович» И. Толстой [1996], у Набокова мы имеем некоторый симбиоз трех лиц в одном повторяющемся образе, связанном одновременно и с отеческим, и поэтическим началом. Причем, по мнению И. Толстого, ссылающегося на В. Александрова, из современных поэтов писатель особенно выделял Николая Степановича Гумилева, принявшего мученическую смерть от русских палачей. Анализируя роман «Приглашение на казнь», я самостоятельно также пришла к выводу о внутренней связи Цинцинната и Гумилева, потому что она во многом определялась пророческими строками поэта из стихотворения «Заблудившийся трамвай» («В красной рубахе, с лицом как вымя, / Голову срезал палач и мне» (1919)), а также звуковым сходством обвинительной формулы «гносеологическая гнусность» с именем-отчеством и фамилией НикОЛая СТЕпаНовича ГУмИЛева [63]. Немаловажной деталью явилась и «бабочка», возникающая при интертекстуальной проекции одного из последних стихотворений Набокова (1972), посвященных своей будущей смерти, в котором всплывают имя и поэтические строки Гумилева:
Гумилевские стихи здесь наделены собственным содержанием, но с соблюдением размера и основной синтаксической конструкции (у Гумилева было: «И умру я не на постели, / При нотариусе и враче, / А в какой-нибудь дикой щели, / Утонувшей в густом плюще») (см. также [Толстой 1996: 183]).
И. Толстой приходит к мысли о симбиозе образа отца, поэта и критика Чернышевского, анализируя прежде всего роман «Дар». Исследователь считает, что в книгах Набокова присутствуют как бы два противоположных отца: «правый» и «левый», обожествленный и сатирически низвергнутый, любимый и ненавистный. «Любимый», ностальгический облик получил в «Даре» отражение в образе отца Федора, Годунове-Чердынцеве старшем, ненавистный — в «сердце черноты» Чернышевском. Ни тому ни другому реальный отец, Владимир Дмитриевич, не равен целиком. Но, как считает Толстой, в «Даре» писатель «вывел своего собственного отца дважды — один раз как Чернышевского, другой раз как Гумилева. Лучше даже сказать так: слепил и по гумилевскому мифу, и по мифу о Чернышевском» [Толстой 1996: 182], соединив их как правую и левую дольку лица. Толстой также отмечает, что со смертью отца для Набокова исчез Христос «и вся система образов, построенная на евангельских коннотациях, мгновенно обветшала» [там же: 183]. Именно поэтому образ отца все более стал срастаться с литературными авторитетами, прежде всего с Пушкиным и Гумилевым. Доминантами-символами этих поэтов для Набокова стали гордая смерть, Медный Всадник и Африка. В «Даре» поэтому даже можно увидеть звуковое отражение фамилий Гу-ми-лев — Го-ду-нов, последняя же, написанная латинскими буквами (Godunov), содержит корень God — Бог.
Для Набокова, помимо любви к путешествиям и поэтического мастерства, в образе Гумилева особо важна была его трагическая гибель. Не случайно в одной из лекций Набокова (это отмечают В. Александров и И. Толстой) «Литературное искусство и здравый смысл» особо выделяется то, что и во время пыток, и в грузовике, везшем Гумилева к месту казни, «поэт не переставал улыбаться». Эту улыбку он считал одной из главных причин, почему «ленинские негодяи» приговорили поэта к казни. Вспомним, что Федор Годунов-Чердынцев также воображал, что его отец шел на смерть «с усмешкой пренебрежения». В романе «Приглашение на казнь» уже вся казнь подается как фарс, и единственное, что помогает Цинциннату переспорить свой страх, — это его знание, что «в сущности, следует только радоваться пробуждению, близость которого чуялась в едва заметных явлениях, в особом отпечатке на принадлежностях жизни, в какой-то общей неустойчивости, в каком-то пороке всего зримого…» [4, 124]. В конце же, уже на плахе, «внезапно с веселой ясностью герой прозревает свое истинное положение и поднимается с плахи» [Александров 1999: 107].
И тут вспомним снова бабочку, которая у Набокова часто является символом смерти и прозрения. Эта ночная бабочка, раскрывая свои крылья и вылетая из кокона, в более раннем рассказе Набокова с символическим названием «Рождество» (1930) как раз служит маркером возвращения героя по фамилии Слепцов к жизни. Этому чудесному природному превращению в «Рождестве» предшествует фраза о смерти: «— …Смерть, — тихо сказал Сатире, как бы кончая длинное предложение» [1, 324]. И в это время, открыв глаза, Слепцов видит порванный кокон.
Для Цинцинната все развивается несколько иначе. Когда он отыскивает лист, чтобы сделать последние записи уже «карликовым карандашом», он пишет слово «„…смерть“, — продолжая фразу», но потом сразу вычеркивает это слово, думая, что «следовало — иначе, точнее: казнь» [4, 119]. При этом Цинциннат, видимо, не записывает этого более точного слова, так как видит бабочку, а на столе тем временем остается «белый лист с единственным, да и то зачеркнутым словом» [4, 119]. И уже у самой бабочки, которая находилась в состоянии сна, Цинциннат отмечает «зрячие крылья» — «но громадные, темные крылья, с их пепельной опушкой и вечно отверстыми очами, были неприкосновенны» [там же]. Можно допустить, поскольку слово «смерть» оказалось зачеркнутым, что теперь сам Цинциннат после казни [64], подобно бабочке, вырывается из «картонно-театрального» кокона жизни, оставляя на земле лишь «личинку палача» [65]. Такая возможность задана в конце XIX главы романа: «Трещина извилисто прошла по стене. Ненужная уже камера явным образом разрушалась» [4, 122]. В это мгновение испуганный Цинциннат как бы смеется (вспомним Гумилева и отца Федора!) внутри себя («— Еще мгновение. Мне самому смешно, что у меня так позорно дрожат руки, — но остановить это или скрыть не могу, — да, они дрожат, и все тут. Мои бумаги вы уничтожите, сор выметете, бабочка ночью улетит в выбитое окно, — так что ничего не останется от меня в этих четырех стенах, уже сейчас готовых завалиться» [там же]). И с этими мыслями Цинциннат «выбрался наконец из камеры, которой собственно уже не было больше».
И здесь, следуя подсказке В. Александрова [1999: 128], следует снова вернуться к «Дару», а именно к тому фрагменту, где Федор, размышляя о таинстве смерти, обращается к уже знакомому нам произведению французского мыслителя Делаланда (Delalande) [66] «Рассуждения о тенях», даже указывая страницы: «Наиболее доступный для наших домоседных чувств образ будущего постижения окрестности долженствующей раскрыться нам по распаде тела, это — освобождение духа из глазниц плоти и превращение наше в одно свободное сплошное око, зараз видящее все стороны света, или, иначе говоря: сверхчувственное прозрение мира при нашем внутреннем участии» (там же, стр. 64) [4, 277].