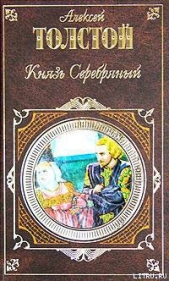Поэтика за чайным столом и другие разборы
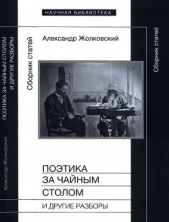
Поэтика за чайным столом и другие разборы читать книгу онлайн
Книга представляет собой сборник работ известного российско-американского филолога Александра Жолковского — в основном новейших, с добавлением некоторых давно не перепечатывавшихся. Четыре десятка статей разбиты на пять разделов, посвященных стихам Пастернака; русской поэзии XIX–XX веков (Пушкин, Прутков, Ходасевич, Хармс, Ахматова, Кушнер, Бородицкая); русской и отчасти зарубежной прозе (Достоевский, Толстой, Стендаль, Мопассан, Готорн, Э. По, С. Цвейг, Зощенко, Евг. Гинзбург, Искандер, Аксенов); характерным литературным топосам (мотиву сна в дистопических романах, мотиву каталогов — от Гомера и Библии до советской и постсоветской поэзии и прозы, мотиву тщетности усилий и ряду других); разного рода малым формам (предсмертным словам Чехова, современным анекдотам, рекламному постеру, архитектурному дизайну). Книга снабжена указателем имен и списком литературы.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Дикость, да и одиночество не были для Ходасевича однозначно негативными состояниями. Ср. в «Младенчестве» (1933): «Мы <…> с Цветаевой <…> выйдя из символизма, ни к чему и ни к кому не пристали, остались навек одинокими, „дикими“. Литературные классификаторы и составители антологий не знают, куда нас приткнуть» [Ходасевич 1991: 255].
А на следующей странице того же автобиографического очерка есть характерный контрапункт таинств детской и возвышенной речи: «…рассказ о первом слове, мною произнесенном. Сестра Женя <…> катала меня, как куклу, в плетеной колясочке на деревянных колесах. В это время вошел котенок. Увидев его, я выпучил глаза, протянул руки и явственно произнес: Кыс, кыс! По преданию, первое слово, сказанное Державиным, было — Бог. Это, конечно, не в пример величественней. Мне остается утешаться лишь тем, что вообще… есть же разность Между Державиным и мной, а еще тем, что <…> выговаривая первое слово, я понимал, что говорю, а Державин — нет» [Там же: 256].
Игру на повышение/понижение с державинским «Богом» можно усмотреть в стихотворении 1921 г., отчасти родственном ПЗ: Смотрю в окно — и презираю. Смотрю в себя — презрен я сам. На землю громы призываю, Не доверяя небесам. Дневным сиянием объятый, Один беззвездный вижу мрак… Так вьется на гряде червяк, Рассечен тяжкою лопатой [Miller 1981: 133].
204
Например:
‘детство’: Грубой жизнью оглушенный <…> Опускаю веки я — И дремлю, чтоб легче минул <…> Шум земного бытия <…> Лучше спать, чем слушать речи <…> Малых правд пустую прю. Всё я знаю, всё я вижу <…> А уж если сны приснятся, То пускай в них повторятся Детства давние года- Снег на дворике московском Иль — в Петровском-Разумовском [ср. Останкино!] Пар над зеркалом пруда («В заседании», 1921);
‘молчание’: Как выскажу моим косноязычьем Всю боль, весь яд? Язык мой стал звериным или птичьим, Уста молчат («Как выскажу моим косноязычьем…», 1921); А под конец узнай, как чудно Всё вдруг по-новому понять, Как упоительно и трудно, Привыкши к слову, — замолчать («Пока душа в порыве юном.», 1924); и мн. др.;
‘ничтожество’: И навсегда уж ей [вознесшейся душе поэта] не надо Того, кто под косым дождем В аллеях Кронверкского сада Бредет в ничтожестве своем («Элегия», 1921);
‘стекло’: Что ж? От озноба и простуды <…> А там, за толстым и огромным Отполированным стеклом <…> На толще чуждого стекла В вагонных окнах отразилась Поверхность моего стола, — И проникая в жизнь чужую, Вдруг с отвращеньем узнаю Отрубленную, неживую, Ночную голову мою («Берлинское», 1923; перекличка с ПЗ отмечена в Miller 1981: 170); Мне лиру ангел подает, Мне мир прозрачен, как стекло («Баллада», 1925).
205
Не имеется, конечно, в виду представлять связь ПЗ с поэзией Анненского исключительно как некий непосредственный отклик на его стихи (и, возможно, на выход в 1923 г. второго издания «Кипарисового ларца»). ПЗ являет одну из кульминаций долгого подспудного отторжения/усвоения/переработки характерных мотивов старшего поэта, в частности его ‘металингвистической рефлексии’ (ср.: В зиянии разверстых гласных Дышу легко и вольно я. Мне чудится в толпе согласных — Льдин взгроможденных толчея («Весенний лепет не разнежит.», 1923); Не ямбом ли четырехстопным, Заветным ямбом, допотопным? О чем, как не о нем самом — О благодатном ямбе том? <…> Таинственна его природа, В нем спит спондей, поет пэон… («Не ямбом ли четырехстопным…», 1930–1938?)) и, главное, ‘проблематизации собственного «я»’, настойчиво и оригинально развивавшейся Ходасевичем вслед за Анненским (иногда даже с использованием той же рифмы бытия/я), ср.:
Мы друг друга окинем Взором чуждым, неслаженным. Самого себя жутко. Я — не я? Вдруг да станется? Вдруг полночная шутка Да навеки протянется? («Ряженые», 1906); Еще томясь в моем бессильном теле, Сквозь грубый слой земного бытия Учись дышать и жить в ином пределе, Где ты — не я. Где, отрешен от помысла земного, Свободен ты… Когда ж в тоске проснусь, Соединимся мы с тобою снова В нерадостный союз <…> Припоминаю я твой вещий сон, Смотрю в окно и вижу серый, скудный Мой небосклон («Сны», 1917); Нет, есть во мне прекрасное, но стыдно Его назвать перед самим собой <…> И вот — живу, чудесный образ мой Скрыв под личиной низкой и ехидной <…> Нет, ты не прав, я не собой пленен <…> Своим чудесным, божеским началом, Смотря в себя, я сладко потрясен. Когда в стихах, в отображеньи малом, Мне подлинный мой образ обнажен, Все кажется, что я стою, склонен, В вечерний час над водяным зерцалом («Про себя», 1919); Что даже смертью, гордой, своевольной, Не вырвусь я; Что и она — такой же, хоть окольный, Путь бытия («Как выскажу моим косноязычьем…»); Я сам над собой вырастаю, Над мертвым встаю бытием («Баллада», 1921); Грубой жизнью оглушенный <…> Опускаю веки я — И дремлю, чтоб легче минул <…> Шум земного бытия <…> Лучше спать, чем слушать речи <…> Малых правд пустую прю. Все я знаю, все я вижу <…> А уж если сны приснятся, То пускай в них повторятся Детства давние года <…> Пар над зеркалом пруда («В заседании»); Теперь иные дни настали. Лежат морщины возле губ, Мои минуты вздорожали, Я стал умен, суров и скуп. Я много вижу, много знаю, Моя седеет голова <…> Теперь себя я не обижу: Старею, горблюсь… («Стансы», 1922); И лишь порой сквозь это тленье Вдруг умиленно слышу я В нем заключенное биенье Совсем иного бытия («Ни жить, ни петь почти не стоит.», 1922); Иль сон, где некогда единый, — Взрываясь, разлетаюсь я, Как грязь, разбрызганная шиной По чуждым сферам бытия («Весенний лепет не разнежит.»); Мне невозможно быть собой, Мне хочется сойти с ума («Баллада», 1925); ср. также длинное (написанное белым 5-стопным ямбом) стихотворение «Эпизод» (1918) о душе, покидающей тело, по-тютчевски созерцающей его с высоты и возвращающейся в него; повторяющийся мотив «падания в себя» и т. п.
206
Впервые: Новый мир. 2011. № 3. С. 168–179 (краткий вариант, в составе статьи «О темных местах текста. К проблеме реального комментирования»); Звезда. 2011. № 4. С. 232–237 (полностью).
207
Сочетание шел… в очках… звучит особенно странно в речи 1-го лица, для которого очки являются не столько частью одежды, надеваемой по погоде, сколько составной частью его личности; зато в описании внешности человека от 3-го лица упоминание очков совершенно естественно. Так, в первых же строках стихотворения намечается эффект иронического отчуждения автора от лирического «я».
208
Соображения о типологии лирических субъектов Хармса см.: Герасимова 1995.
209
Что касается четвертого члена финальной рифменной схемы — речки, то от размышлений о ее эмблематичности в духе Гераклита и Державина я пока воздержусь; ср., впрочем, ниже соображения о «неподвижной воде»: Ямпольский 1998: 165–168.
210
О понятии поэтического мира как системы инвариантных мотивов см.: Жолковский 2005.
211
Именно четкость формы лежит «в основе игры со здравым смыслом и логикой» (Grob 1994: 76, см. также: Буренина 2004: 46).