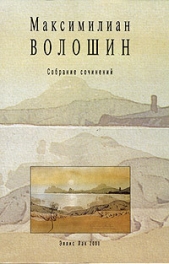Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов

Неканонический классик: Дмитрий Александрович Пригов читать книгу онлайн
Эта книга — первый опыт междисциплинарного исследования творчества поэта, прозаика, художника, актера и теоретика искусства Дмитрия Александровича Пригова. Ее интрига обозначена в названии: по значимости своего воздействия на современную литературу и визуальные искусства Пригов был, несомненно, классиком — однако его творчество не поддается благостной культурной «канонизации» и требует для своей интерпретации новых подходов, которые и стремятся выработать авторы вошедших в книгу статей: филологи, философы, историки медиа, теоретики визуальной культуры, писатели… В сборник вошли работы авторов из пяти стран. Кроме того, в книге представлены записи нескольких интервью и интеллектуальных бесед с участием Пригова и наиболее важные, этапные для осмысления его творчества статьи исследователей московского концептуализма 1970–2000-х годов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Что за болезнь такая у нас в Москве (да и сам я тоже ею болею) — окружить себя иконостасом портретов-непортретов друзей, вознести в трансцендентное не только себя, но всю компанию, все культурное поле? Напомню «Стихи с посвящениями» Холина, выставочный проект Кабакова «НОМА», портретные циклы Эдуарда Гороховского, «автобиографические» картины Олега Васильева, мой собственный альбом «Действующие лица», наконец. Приговские монстры — в том же ряду. Причин этой болезни, видимо, много. Может быть, одна из них — чувство онтологической неуверенности, неукорененности, в конечном счете ненужности.
Как только появилась возможность путешествовать на Запад, Пригов понял: для того чтобы не потонуть в океане современного искусства, необходимо, чтобы твоя работа узнавалась на расстоянии пушечного выстрела, как только твой и ничей другой авторский «фирменный» знак:
— А-а-а! Это Пригов!
Добиться этого очень непросто. Удается единицам. Проблеме выработки такого знака он придавал первостепенное значение. Много думал об этом и писал. В конце концов, как всегда, он все просчитал, и у него получилось. Его рисунки на газетах и «Монстры» не потонули.
Теоретиком он, может быть, и не был, но множество текстов и интервью содержат теоретические рефлексии. И всегда (это было для меня немного странно, как-то сужало его) он выступал (это тоже, видимо, было продуманной стратегией) как твердокаменный концептуалист. В личных же беседах было совсем по-другому. Мы часами могли взахлеб говорить о старом искусстве, которое он превосходно знал и любил. Безумно интересно он говорил о скульптуре. Я уговаривал его написать книгу о «метафизике» скульптуры. Если о живописи существует целый ряд великолепных книг, написанных «изнутри», самими художниками, то о скульптуре, в силу особого психологического склада мастеров, работающих с тяжелыми материалами и не склонных к интеллектуальным рефлексиям, таких книг почти нет.
Новый, 2007 год мы встречали вместе. В Праге. В доме поэта Игоря Померанцева. Жена поэта Лина приготовила изумительные киевские вкусности. Кирилл Кобрин с Ольгой, Марина Смирнова, Томаш Гланц, мы с Миленой. Уютнейшая компания. По моей просьбе Пригов читал. Как всегда изумительно. В том числе — «Кит-а-а-а-йское!» Был это его последний Новый год.
Уход любого большого художника что-то означает. Для его близких, друзей, для его культуры. Чаще всего конец какой-то эпохи. Так было с Пушкиным, так было с Толстым, с Маяковским, Бродским. Уход Пригова, похоже, точку не ставит. Скорее — многоточие.
Вадим Захаров
ДУМАЯ О НАСТОЯЩЕМ
Жанр воспоминаний к Дмитрию Александровичу Пригову как-то не подходит.
Особому складу его личности претят любые воспоминания. Таково мое мнение. К тому же я совершенно не чувствую, что линия наших отношений, существовавшая двадцать пять лет, а то и больше, прервалась столь безнадежно. Но что говорить: когда, будучи в Грузии, я получил от жены Бориса Гройса Наташи Никитиной sms о том, что… стало не по себе.
У меня нет ощущения пропасти, которая вдруг возникла под ногами, что так часто происходит, когда уходит близкий. С Дмитрием Александровичем все по-другому. Я и сейчас уверен, что встречу его где-нибудь в Берлине или на выставке в Москве. В этом кроется своеобразие его личности — время не было властно над его жизнью и даже над его уходом. Есть только настоящее, нет никакого эмоционально окрашенного прошлого, тем более загадочного будущего. Пригов оказался тотально внутри настоящего — это его огромная творческая и личностная заслуга.
Не могу похвастаться близкими отношениями с Дмитрием Александровичем — скорее их можно было назвать ровно-дружескими. Такая форма отношений допускала нюансы в сторону более близкого общения, но никогда не позволяла опускаться ниже установленной когда-то черты доверия и уважения друг к другу. Думаю, что подобная эмоциональная стабильность была одной из важных черт Дмитрия Александровича. Лишь профессионально он мог позволить себе обрушить на зрителя шквал эмоций.
Занимаясь уже не менее двадцати пяти лет архивом московской концептуальной сцены, я не раз фотографировал Дмитрия Александровича. Первая фотосъемка датируется, кажется, 1978 (или 79) годом: Пригов читает свои стихи в мастерской Игоря Макаревича (или у Симоны Сохранской, но в любом случае это один дом). Я с трудом узнаю сидящих рядом с Приговым — многие за эти годы очень постарели. А Дмитрий Александрович перешел в третье тысячелетие, с тех пор практически не изменившись внешне. Таков феномен Пригова.
Пригов выбрал, как мне представляется, активную позицию балансирования между культурой, представленной всегда неким истеблишментом (даже в неофициальной среде), и громадной приватно-творческой сферой. Мне кажется, что ему никогда не было скучно наедине с собой. Он активно, творчески жил в любое время дня и ночи — кстати, работал он в основном по ночам. Он мог каким-то чудом оказываться по три раза за день на телевидении (я говорю уже о 1990-х годах) и одновременно держать личную сферу творчески отстраненной от любого внешнего вмешательства. В этом не было двойственности: это было формированием и активной пропагандой особого типа личности — для всех, в том числе и для самого себя.
Мне кажется, что сложность Пригова прорывается во всех его произведениях. Под сложностью я подразумеваю целый комплекс персональных установок, сцепленных в некую подвижную личностную и творческую концепцию.
Удивительным же всегда для меня было то, что он профессионально так легко разделял поэтическую сферу (позиция «я — Пригов», «я — поэт», «я — гений») и сферу художественной работы, в которой декларировал второстепенность и приватность (работа над графикой осуществлялась, со слов Дмитрия Александровича, в свободное от литературного творчества время). При этом не надо забывать, что он учился вместе с Борисом Орловым и, получив профессиональное художественное образование, отдавал рисованию половину своего времени, если не больше. (Если говорить о других концептуалистах первого ряда, то, к примеру, Андрей Монастырский, наоборот, пришел в современное искусство после филологического образования.) Художественной сфере Дмитрий Александрович как-то очень легко отдал территорию своего подсознания, которая неким странным рисунком проецировалась на поэтический ландшафт, создавая иногда невероятные пейзажи.
В мночисленных графических листах, выполненных на газетах или в инсталляциях, где использована печатная продукция, сказанное выше находит подтверждение. Газета, как матрица некоего вербального высказывания, стала основным приговским фоном (здесь не важна дата или сам газетный текст), на котором Дмитрий Александрович каждый раз разыгрывал — смело, а подчас и нарочито примитивно — сцены какой-то внутренней личностной метафизики. Он не боялся изображать слезы из огромных глаз, часто это были кровавые слезы. Или играть очевидной, незамаскированной символикой, что иногда вступало в сильный контраст с его ироничной концептуалистской позицией. В его литературных — поэтических и прозаических — текстах очень часто сталкиваются взаимоисключающие структуры речи. Художественные же работы практически всегда зависали в пределах прямого высказывания, подчас брутально-банального, но тем самым демонстрировали гигантскую амплитуду всей его личности. Я даже могу предположить невероятное: что вся художественная область была для него лишь театральной постановкой, предназначенной только для автора, — чтобы в ней разыгрывались сцены, позволявшие личности Пригова визуализировать внутренние поиски и сомнения.
Время моего становления как художника — конец 1970-х. С начала перестройки всем, как нас тогда называли, неофициальным художникам представилась возможность выезда на Запад, на выставки, сначала групповые, а потом и персональные. Так, в 1990 году Виктор Мизиано организовал в Риме выставку «Москва — Третий Рим» (название придумал А. Филиппов), куда пригласил Пригова, Орлова, Филиппова, Звездочетова, Литичевского, Ройтера и меня. Это была первая наша поездка в Италию. В то время я купил свою первую видеокамеру и поэтому снимал все подряд. Так я отснял около пяти часов наших перемещений по Италии. Конечно, из этого можно выбрать не так много. Но Дмитрий Александрович в своей джинсовой курточке там активно присутствует — и в ресторане, и в прогулках по Риму, Флоренции, Генуе, Венеции. И сегодня я очень этому рад. После Рима мы часто встречались на выставках в той или другой западной стране, и я практически всегда снимал на фото или видео его инсталляции и выступления. Конечно, как всегда бывает, сожалею теперь, что отдельные эпизоды плохо снял, что по лени не взял видеокамеру, когда сидели где-то в интересной компании…