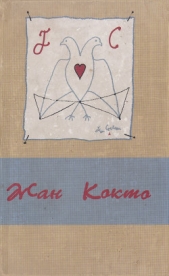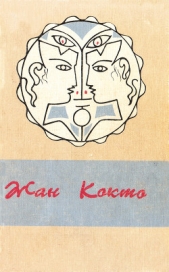Эссеистика
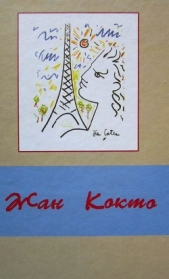
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В «Посвящении Марселю Прусту», вышедшему в «Нувель Ревю Франсез». я уже рассказывал анекдот с чаевыми швейцару в отеле Риц {195}. «Вы не могли бы одолжить мне пятьдесят франков?» «Сию минуту, господин Пруст». «Оставьте их себе, это для вас».
Не стоит добавлять, что на следующий день швейцар получил втрое больше.
Марсель Пруст не списывал, конечно, главных персонажей, но некоторые его друзья вкрапливались большими дозами в эти смеси. Однако ему не приходило в голову, что модель, чьи недостатки он описал как прелести, отказывается читать книгу не потому, что обижена (она себя и не узнала), а потому что недостаточно умна.
И тогда он (Пруст), как дитя, сердился и желал, чтобы его успех приравняли к славе Фабра среди насекомых.
Чтобы понять атмосферу прустовского дома, зайдите в «Комеди Франсез». Толкните последнюю дверь направо по коридору, разделяющему сцену и грим-уборные актеров. Это гримерная Рашель {196}. И там, где жарко, как в печке, вы увидите покрывала, арфу, мольберт, фисгармонию, часы под стеклянными колпаками, бронзовые статуэтки, подставки черного дерева, пустое пространство под стеклом, исторический слой пыли… Короче говоря, вы окажетесь у Пруста в ожидание, пока Селеста вас к нему не проведет.
Я отметил это сходство, чтобы сказать о Рашели, о Берма {197} и о том, что совпадения будят в нас священные загадки.
Общество называет развращенностью гения чувств и осуждает его, потому что чувства находятся в ведении суда присяжных. Гений находится в ведении «двора чудес». Общество оставляет его в покое и не воспринимает всерьез.
Христос начинает с того, что умирает. В том же возрасте Александр Македонский погибает от несварения славы. Представляю, как он, грустный, сидит на краю своей повозки и думает, чем бы ему еще завладеть. И хочется ему ответить: Америкой, аэропланом, часами, граммофоном, радиоприемником.
Бальзамировщицы наполнили его медом. В некотором отношении ему даже повезло: его моча пахла фиалкой. Возникает вопрос: может, его сделали легендой, чтобы компенсировать людские несбывшиеся надежды. От его успеха остался профиль на монете, которую подарил мне Баррес. На реверсе изображен сидящий мудрец. Всем известно, что орел и решка вряд ли когда-нибудь встретятся.
Есть Христос, и есть Наполеон. И тут ничего не сделаешь. Счастливая судьба с ограниченными последствиями и несчастливая судьба с неограниченными последствиями. По методу Наполеона из-за предателя сражение проигрывается. Согласно Христу, из-за предателя сражение выигрывается.
Единственно долговечная эстетика — эстетика проигрыша. Тот, кто не понимает суть проигрыша, обречен.
Проигрыш чрезвычайно важен. Я не говорю о том, что не получается. Но не понять секрет, эстетику и этику проигрыша — значит не понять ничего, и слава тогда ни к чему.
Числа никогда не бывают бесчисленными. Они превращают соборы в часовни.
Поклонники не в счет. Надо суметь потрясти, по крайней мере, одну душу, но коренным образом. Чтобы тебя любили за грустный отход от твоих произведений.
«Я это уже делал», «это уже делали» — глупые заявления, лейтмотив художников, начиная с 1912 года.
Ненавижу оригинальность и по мере сил ее избегаю. Оригинальную мысль следует высказывать с величайшими предосторожностями, чтобы не показалось, будто вы надели новый костюм.
Одна семидесятипятилетняя женщина сказала мне: «Мужчины нашего поколения, члены „Жокей-клуба“ считались остроумными за счет разнообразия вин во время застолья».
После ужина все были немного навеселе. Одни полагали, что говорили колкости, другие — что их слышали.
Опиум высвобождает ум, но никогда не прибавляет остроумия. Он разглаживает ум, но никогда его не заостряет.
БОЛЬШОЙ МОЛЬН. БЕС В КРОВИ {198}. Фурнье — хороший ученик, Радиге — плохой. Оба эти близоруких создания, едва вышедших из небытия и вскоре в него вернувшихся, не были похожи друг на друга, однако их книги передают ощущение тайны детского царства, менее изученного, чем царства растений или животных. Франц в классе, Франц — раненый всадник, Франц в гимнастическом трико, Огюстен Мольн — лунатик; сумасшедшая на крыше, Ивонна и Марта, уничтоженные ужасным детством.
После того, как умер мой дед, я рылся в манившей меня комнате — подобии научно-художественной свалки — и нашел нераспечатанную пачку сигарет «Назир» и мундштук из черемухи. Сокровище было засунуто в карман.
Однажды весенним утром в Мезон-Лаффит среди высокой травы и диких гвоздик я открыл эту рачку и выкурил одну сигарету. Ощущение свободы, роскоши, устремленности в будущее было столь ярким, что с тех пор я никогда и нигде не испытал ничего подобного. Если бы меня провозгласили королем, гильотинировали, изумление и удивление не сравнились бы по интенсивности с этим запретным выходом в мир взрослых, в мир траура и горечи.
Еще одна вещь меня по-прежнему очаровывает и мгновенно погружает в детство: это гром. Стоит начаться раскатам, следующим вдогонку сиреневой молнии через все небо, как меня переполняют нежность и покой. Я терпеть не мог опустевший сельский дом, отъезд то одних, то других (куда-то спешащих). Точно так же я терпеть не могу, когда сидящий напротив меня читает газету. Гроза была залогом обитаемого дома, очага, игры, дня, проведенного в узком кругу и без дезертиров. Видимо, это забытое ощущение интимности и вызывает у меня радость при раскатах грома.
Детство
В 1915 году в поисках приключений был организован самый занятный эшелон Красного Креста. Как-то ночью, в Р., шел дождь. Весь зловонный двор фермы, в том числе навозные кучи и ясли, были заполнены ранеными высокопоставленными немцами и их медперсоналом, взятым в плен.
Вдруг в темном углу среди лестниц и привидений я увидел следующую сцену: сын мадам Р., одиннадцатилетний бойскаут, спрятавшийся в машину скорой помощи, выследил нас. Теперь он сидел на корточках в свете фонаря, и, вооружившись ножницами, высунув язык и сосредоточившись настолько, что не заметил меня, срезал пуговицы с формы немецкого офицера, которому ампутировали ногу. Офицер застывшим взглядом смотрел на безжалостного озорника, продолжающего обирать с него сувениры, словно с дерева.
Савонарола {199} использовал подобную детскую жестокость. Его команда бойскаутов грабила, крушила, разрывала и тащила шедевры на очищающий костер. И, наверное, те же дети, боясь хоть что-то пропустить, следили за приготовлением его казни.
Я не хочу и не могу убивать. В моей семье были охотники, и случается, что, когда кролик выскакивает из-за куста, я вскидываю, ружье. Я тут же прихожу в себя и тупо в одиночестве осознаю свой смертельный жест.
В деревне В. я часто ходил с карабином по скрипящим посевам репы в сопровождении сына егеря. Однажды у входа в нору я обнаружил дохлого новорожденного кролика. Вернувшись домой, я гордо его продемонстрировал.
Дядя: Это ты убил животное?
Я (будучи уверен, что правда немедленно все сообщает взрослым, что она — часть мира взрослых и находится в непосредственном контакте с дядей, что он все знает, но присоединится к моей игре): Да, я.