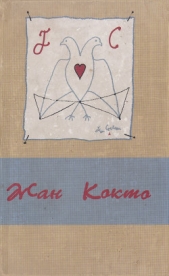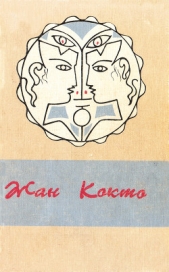Эссеистика
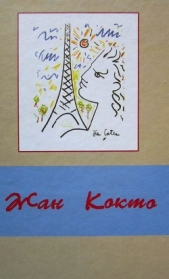
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нет более чистого шедевра, чем курильщик опиума. Совершенно естественно, что общество, ратующее за раздел имущества, осуждает курильщика как невидимую красоту, даже не пытающуюся себя продать.
Художник, с радостью рисующий деревья, превращается в дерево.
В ветвях заложен естественный наркотик. Обманщик Тома, умирает как ребенок, который заигравшись в лошадку, стал лошадью.
Все дети наделены феерической способностью превращаться в кого угодно. У поэтов детство затянулось, и они очень страдают, что потеряли этот дар. Возможно, это одна из причин, побуждающая поэта курить опиум.
Вспомнился один эпизод. Когда после процесса над Сати, отправившего открытки оскорбительного содержания, я принялся «насильственно угрожать адвокату, находящемуся при исполнении полномочий», я ни секунды не думал о последствиях своего поступка. Я повиновался чувствам. Мы целиком отдаемся настоящему моменту. Наша психика сжимается и превращается в точку. Без прошлого и будущего.
Меня мучают прошлое и будущее, любое действие под влиянием страсти — на счету. Впрочем, опиум смешивает прошлое с будущим и лепит некое общее настоящее, обратное страсти.
Спиртное вызывает приступы безумия.
Опиум вызывает приступы мудрости.
СОБАКИ. Сати хотел устроить театр для собак. Занавес поднимается. Сцена представляет собой кость.
В Англии недавно сняли фильм для собак. Сто пятьдесят приглашенных псов набросились на экран и порвали его в клочки. («Нью-Йорк Таймс»).
Однажды, будучи на улице Лабрюйера в доме 45 у дедушки, не переносившего собак и обожавшего порядок, я пошел выгуливать полуторагодовалого фокстерьера (мне было тогда четырнадцать), которого домочадцы с трудом терпели. Спустившись в вестибюль по мраморным ступенькам, мой фокс вдруг изогнулся дугой и облегчился. Я побежал к нему и замахнулся. Зрачки несчастного животного расширились от ужаса: он слопал собственную кучу и встал на задние лапки.
В пять часов в клинике старому умирающему бульдогу вкалывают смертельную дозу морфия. Час спустя он играет в саду, скачет, катается клубком. На следующий день, ровно в пять он скребется под дверью врача и просит его уколоть.
Пес мадам С. в Грассе влюбился в сучку, принадлежавшую Мари С., живущей в нескольких километрах. Пес дожидался поезда, вскакивал в тамбур и проделывал то же самое на пути обратно.
На бульваре мадам А. Д. купила крошечную собачку. Дома она опустила песика на пол и пошла за водой, чтобы его напоить. Вернувшись, она увидела собаку, висящую на бортике коробки. Это оказалась крыса в собачьей шкуре: от ярости она умудрилась отгрызть фальшивые лапки.
Герцог де Л. платил слугам замка, чтобы они лечили старого пуделя. Однажды герцог вернулся домой раньше обычного и увидел бегущего палевого пса, за которым волочилась шкура белого пуделя. В течение трех месяцев прислуга оборачивала собаку в шкуру дохлой собаки.
Полностью излечившийся курильщик, снова начавший курить, не испытывает недомоганий, как в первый раз. Помимо алкалоидов и привычки, существует некий дух опиума, особая неощутимая привычка, сохраняющаяся, несмотря на перестройку всего организма. Не следует принимать этот дух за сожаление опиомана, вернувшегося к нормальной жизни, хотя в этом сожалении есть доля зова. От умершего наркотика остается призрак. В определенные часы он бродит по дому.
Вылечившийся опиоман хранит в себе бессознательные механизмы защиты против яда. Если он принимается за старое, эти механизмы срабатывают и заставляют его принимать дозы более сильные, чем во время первой интоксикации.
Опиум — как время года. Курильщик больше не страдает от перемены погоды. Он никогда не простужается. Он страдает лишь от перемены наркотика, дозы, часов приема, от всего, что влияет на барометр опиума.
У опиума свои простуды, ознобы и жар, и они не соответствуют обычному холоду и жару.
Врачи хотят, чтобы опиум нас ослаблял и лишал нас шкалы ценностей. Однако если опиум и выбивает у нас из-под ног старую систему ценностей, он выстраивает другую, гораздо более высокую и изысканную.
(1930). Нельзя сказать, что опиум, освобождая от всякого сексуального влечения, истощает курильщика, поскольку он не только не лишает потенции, но заменяет относительно грубое влечение совершенно особым возвышенным влечением, неведомым организму с обычной сексуальностью.
Например, определенный тип сознания, несмотря ни на что, будет носиться в воздухе, привлекать, распознаваться через века и искусства и будет преследовать эту трансцендентную, невежественную сексуальность как определенный человеческий тип, невзирая на понятия пола и социальных границ (Даржелос, Агата, звезды и боксеры в комнате Поля).
Опиум завораживает всех животных. Курильщикам в колониях известно, насколько опасна его притягательность для хищников и рептилий.
Мухи вьются вокруг блюда и грезят, саламандры замирают на потолке над лампой, приклеившись коротенькими лапками в ожидании своего часа, мыши подходят на близкое расстояние и грызут дросс. Я уже не говорю о собаках и обезьянах, отравленных вместе с хозяевами.
В Марселе у аннамитов, где для курения используются подручные средства, чтобы ввести в заблуждение полицию (газовые трубы, сувенирная бутылочка от бенедиктина с проделанной в ней дырочкой, шляпные булавки), впавшие в состояние экстаза тараканы и пауки ходят кругами.
ГОРЕМЫКА. ТУСКЛАЯ ЛИЧНОСТЬ Клеймо, которое нередко ставится газетчиками или полицейскими на тех, кого мы любим, кем мы восхищаемся, кого мы чтим, например, на Леонардо да Винчи.
Но есть и особое высшее клеймо посвященных. Юные аннамиты теперь больше не курят. В Индокитае больше не курят. На корабле курят только в книжках.
Когда я слышу подобные фразы, я закрываю глаза и снова представляю мальчиков-боев, дежурящих на Х. — одном из самых больших теплоходов, курсировавших по маршруту Марсель-Сайгон. Х. стоял в ожидании груза. Офицер интендантской службы, курильщик и мой приятель, предложил некую авантюру. В одиннадцать часов вечера мы прошли мимо безлюдных доков и вскарабкались по трапу на палубу. Мы должны были во всю прыть бежать за нашим проводником, но так, чтобы не пересечь ни одной окружности. Мы перепрыгивали через свернутые кабели, огибали колонны и греческие храмы, пересекали городские площади, лабиринты машин, света и тени. Когда мы залезали не в те люки и сворачивали не в те коридоры, несчастный проводник был в растерянности, но в конце концов донесшийся до нас сильный необычный запах вывел нас всех на правильную дорогу.
Представьте огромные спальные вагоны, четыре-пять отделений, где шестьдесят боев курят на деревянных нарах. Посередине каждого отделения — длинный стол. На этих столах раздеваются опоздавшие, будто разрезанные надвое плоским неподвижным облаком, горизонтально разделившим комнату пополам. Натянув веревки и по обычаю развесив на них свое белье, они нежно потирает плечо.
Светильниками служат ночники над которыми потрескивает наркотик. Тела сплетаются. Никто нам не удивляется, мы никого не раздражаем тем, что устраиваемся там, где уже ни для кого нет места, и застываем в позе охотничьих псов, опершись затылком о скамеечки. Наша суета никак не тревожит одного из боев, спящего со мной лицом к лицу. Он содрогнулся от какого-то кошмара и погрузился в сон, который навалился на него, войдя через открытый рот, широкие ноздри, оттопыренные уши. Его опухшая физиономия напряжена, словно сжатый кулак, он весь в поту, вертится с боку на бок и рвет свои шелковые лохмотья. Такое ощущение, что достаточно сделать надрез, и его кошмар улетучится. Его гримасы поразительно контрастируют с растительным спокойствием остальных, спокойствием, мне что-то очень напоминающим… Но что? На досках лежат скрюченные тела, скелет, выступающий под бледной кожей — лишь тонкий остов сна. На самом деле, юные курильщики напомнили мне изогнувшиеся на красной равнине Прованса оливковые деревья, чья серебристая крона облаком повисла в воздухе.