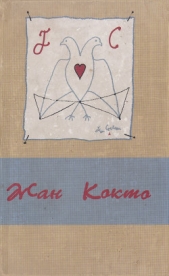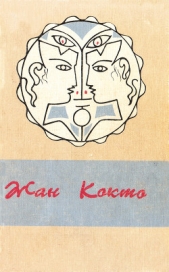Эссеистика
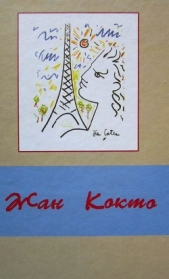
Эссеистика читать книгу онлайн
Третий том собрания сочинений Кокто столь же полон «первооткрывательскими» для русской культуры текстами, как и предыдущие два тома. Два эссе («Трудность бытия» и «Дневник незнакомца»), в которых экзистенциальные проблемы обсуждаются параллельно с рассказом о «жизни и искусстве», представляют интерес не только с точки зрения механизмов художественного мышления, но и как панорама искусства Франции второй трети XX века. Эссе «Опиум», отмеченное особой, острой исповедальностью, представляет собой безжалостный по отношению к себе дневник наркомана, проходящего курс детоксикации. В переводах слово Кокто-поэта обретает яркий русский адекват, могучая энергия блестящего мастера не теряет своей силы в интерпретации переводчиц. Данная книга — важный вклад в построение целостной картину французской культуры XX века в русской «книжности», ее значение для русских интеллектуалов трудно переоценить.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Мой к тому времени покойный отец якобы не умер. Он превратился в одного из попугаев из Пре-Каталан, того попугая, чья болтовня навечно оказалась для меня связанной со вкусом пенистого молока. Во сне мы с матерью усаживаемся за столик фермы Пре-Каталан, где разные фермы переходят в террасу зоопарка с вольером для стаи какаду. Я понимал, что мать и знала и не знала о том, что мне известно, и я догадывался, что она пытается определить, в какую именно птицу превратился отец и почему. Я просыпался в слезах, глядя на ее вымученную улыбку.
Нередко молодые иностранцы приносят поэтам извинения, что с трудом их читают, поскольку плохо владеют нашим языком. Это я должен принести извинения, за то, что пишу на языке, а не простыми знаками, вызывающими любовь.
Скандал в Риме. Сокровища Пия и хищения птиц. Ангелы снова восхищают детей. Поэты злоупотребляют ангелами. Птиц обвиняют в легковесности. Свидетельства Леонардо и Паоло ди Доно {215}.
Только птица может позволить себе изобразить «Осквернение гостии». Только птица достаточно чиста, эгоистична и жестока.
Письмо Коро {216}: «Сегодня утром я получил высочайшее наслаждение, снова взглянув на свою небольшую картину. Ничего особенного в ней не было, но она прелестна и словно нарисована птицей».
Раненый Гильом Аполлинер, служивший в то время в министерстве по делам колоний, сидя в гостиной, уставленной всяческими безделушками, написал мне письмо, которое заканчивалось следующими строками:
И прикрепил к нему полоску бумаги с изречением: «Птица поет пальцами».
А вот отрывок из «Локус Солюс»:
«В тонкой струйке дыма, возникшей из головы спящего, появились, будто во сне, одиннадцать юношей, сгорбленных под грузом ужаса, исходящего от некого почти прозрачного воздушного шара, в который, казалось бы, властно нацелился белый голубь, и который отбрасывал на земле легкую тень, покрывающую мертвую птицу» [39].
ВОСПОМИНАНИЕ О ХУТОРЕ ФУРК {217}. Испанским жестом павлин сложил свой веер. Он покидает сцену с жестоким взором, эмалевой головкой, собачьей грудью, изумрудным корсажем и хохолком. На королевском шлейфе он уносит изумленные глаза толпы. Склонившись с крыльца, он напыщенно зовет шофера.
КТО ПЛАТИТ ДОЛГИ. В наше неблагодарное время мне хочется написать книгу благодарностей. Помимо прочих одолжений, Жид изменил мне почерк. По молодости лет я имел глупость придумать себе почерк. И этот фальшивый почерк, распознаваемый графологом, искажал меня и мою душу. Я завершал маленькой завитушкой большую завитушку заглавных «j». Однажды, уходя от меня, уже в дверях Жид, преодолевая смущение, произнес: «Советую упростить ваши „j“».
Я начинал понимать, насколько жалок успех, выстроенный на молодости и блеске. Удаление завитушки меня спасло. Я постарался вернуться к своему настоящему почерку и с помощью почерка снова обрел те природные качества, что потерял.
Опасайтесь собственного почерка, заканчивайте буквы, соединяйте их между собой, пишите так, чтобы «t» не было похоже на «d».
Полное отсутствие изящества — неразборчивая подпись
Однажды, когда я надписывал конверт в доме у Пикассо, он взглянул на меня и промолвил со своей особой улыбкой: «И ты тоже?» Я соединял уже написанные буквы фамилии. Всезнающий Пикассо: разумеется, и это ему было известно.
Писатель разрабатывает свой дух. После таких тренировок не остается никакого времени для занятий спортом. Тут требуются страдания, неудачи, усталость, траур, бессонница, то есть упражнения, противоположные укреплению тела.
Заблуждение насчет успеха дьявола у интеллектуалов. Господь и простодушные! Но без дьявола Бог никогда не собрал бы широкой публики.
Какой-нибудь поэт мог бы упрекнуть Его в подобной уступке.
Что касается исследований диалектов дикарей, мне нравится воображать перевод Пруста на некое наречие, в котором одним словом можно было бы выразить ревность, заключающуюся в том, что… или ту, что заключается в… Целые страницы сводились бы к одной строчке, и «Све» означало бы, например, «По направлению к Свану»
Я проверил, что когда тебе не присылают вырезки из газет и ты надеешься исключительно на случай, чтобы наткнуться на важную статью, ты часто совершаешь бестактность. Однако, поскольку в нужных статьях нет и намека на тактичность, пусть их авторы не рассчитывают на то, что художник, о котором они говорят и которого они обсуждают, как уже мертвого, их прочтет. Из-за нашей невежливости мы пропускаем только незначительные статьи, а не серьезные исследования.
Необъяснимая важность поэзии. Отношение к поэзии как к алгебре.
Прежде всего, она взывает лишь к самым грубым душам, тем, которые должны презирать ее как роскошь, и это хуже всего.
Если мне могли бы доказать, что я приговорю себя к смерти, если не сожгу «Ангела Эртебиза», я, возможно, его сжег бы.
Если бы мне доказали, что я приговорю себя к смерти, если не добавлю или не выкину хотя бы одного слога из стихотворения, я больше не смог бы до него дотронуться, я бы его отверг, я бы умер.
Когда я вижу всех тех художников, которые профессионально ненавидят общество, потому что их там еще не приняли, и после сорока впадают в снобизм, я радуюсь, что мне повезло быть принятым обществом в шестнадцать, а в двадцать пять оно мне окончательно опротивело.
В защиту опиума. Опиуму совершенно не свойственна светскость. За исключением некоторых активных личностей отменного здоровья, опиум уничтожает любое проявление светскости.
Я точно помню (тогда я еще не курил), в какой именно вечер я решил больше никуда не выходить, и получил подтверждение тому, что светские художники теряют квалификацию.
Дело было в посольстве Англии. Жена посла давала прием в честь принца Уэльского.
Несчастный принц в мундире, сапогах, краснея, не поднимая глаз, переминался, точно дрессированный медведь, с ноги на ногу, теребил кожаные ремешки. Он одиноко стоял под люстрой в центре просторной залы с блестящим паркетом. Многочисленные гости подходили к особой воображаемой линии и те, кого представляли, пересекали лакированное пространство. Дамы приседали в реверансе и возвращались на прежнее место, мужчины подходили редко.
Вдруг посол лорд Д. приблизился ко мне, взял за шиворот, потащил меня полумертвого к принцу и, бросив меня ему будто собаке кость, произнес: «Вот этот вас развлечет».
Признаюсь, я реагирую медленно. Обычно я слишком поздно нахожу, что ответить, и потом жалею. На этот раз ответная реакция была мгновенной. Принц разглядывал меня, окончательно смутившись. Я задал ему вопрос. Видимо, ему впервые задавали вопрос. Он удивленно ответил с кротостью агнца.
На следующий день Реджинальд Бриджмен, личный секретарь лорда Д., готовящийся стать лидером лейбористов, передал мне, что все посольство недоумевало, зачем я задал принцу вопрос. «Ответь им, — сказал я, — что после бестактности посла мне не оставалось ничего иного, как задать принцу вопрос, чтобы он понял, что разговаривает с равным». (Впоследствии принц, видимо, подумал, что я строил из себя шута, дабы оправдать высказывание посла.)