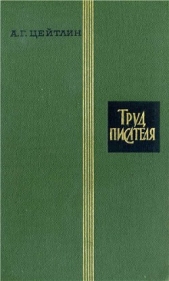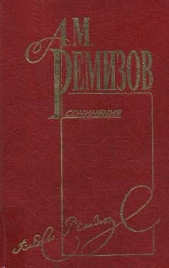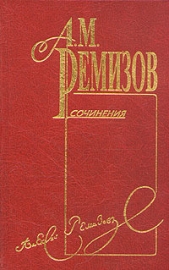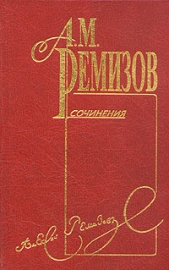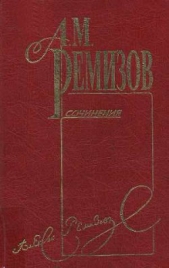Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать книгу онлайн
Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».
В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
То, чтó Ремизов все же попытался объяснить в ответном письме к Ильину, вероятно, только утвердило последнего и в отношении к «Трем серпам», и в верности установленного им критерия художественности. Однако критические замечания философа парадоксальным образом заставляют раздвинуть рамки локального анализа отдельных произведений писателя и обратиться к punctum puncti его художественного наследия, всецело подчиненного особой природе и специфическим законам мифотворчества. Знаменательно, что сам Ильин выделял мифотворчество среди других наиболее ярких и продуктивных характеристик писателя: «Перевоплощение дается Ремизову тем легче и оказывается тем совершеннее, чем больше создаваемые им образы допускают мифическое построение и произвольное насыщение. Ремизов, творящий миф, оказывается иногда более изобразительным и художественно убедительным, чем Ремизов, творящий психологический роман с живыми людьми» [503]. Однако для Ильина эта особенность — не фундаментальное свойство индивидуального сознания, а всего лишь один из литературных приемов, используемых автором. Основная причина разногласий между Ильиным и Ремизовым заключается, на наш взгляд, в том, что критик подошел к мифологическому сознанию и мифологическому образу с позиций религиозных, логических, научных. На самом деле миф и религиозный канон предполагают различные формы «вероимности»: по справедливому замечанию В. В. Розанова, «в сказку мы верим, в религию верим до знания» [504]. В конечном счете полемический диалог, завязавшийся вокруг книги «Три серпа», продемонстрировал принципиальную несовместимость менталитетов писателя и критика.
Ремизов никогда не создавал произведения рациональным «отбором», что предписывал делать художнику Ильин; используя свой уникальный талант, он воспроизводил принципы народного мифосложения. Его объяснение («решил „нарядить“ легенды „в современность“») напоминает поведение народного сказителя, который устойчивый сказочный мотив постоянно дополняет чем-то от себя, чем-либо, делающим расхожую тему своей, адаптированной к местным условиям, а значит и более понятной. Нивелирование пространственно-временных границ, соединение реалий различных культур, употребление анахронизмов, синкретизм — словом, все, что как раз и является важнейшими отличительными признаками мифомышления, — отмечены Ильиным как антихудожественные тенденции творчества Ремизова, но в легендах из «Трех Серпов» эти особенности не свидетельствуют об изъянах вкуса их автора, а служат дополнительным подтверждением универсальности образа Николы. Примечательно, что на письме Ильина имеется помета Ремизова, оставленная красным карандашом. Подчеркнуты слова, сравнивающие метод Ремизова с тенденциями модернистской живописи: «Все это („смешение заведомо не уживающихся атрибутов“. — Е.О.) нарушает законы образного плана в искусстве, подобно картине Пикассо — разложившего на куски липа по различным углам полотна». Заключенное в данном высказывании противоречие, несомненно, было замечено Ремизовым, поскольку суть смешения или синкретизма заключается, в отличие от примера с картиной Пикассо, не в разложении и разъединении, а в соединении.
Художественная цензура Ильина не пропустила и «вольного» отношения к явлению чудесного в тех притчах, где народная вера в волшебство соединена с религиозной верой в Святителя Николая. Действительно, в ремизовских легендах, как и в подлинных народных сказках о Николе, вера религиозная и сказочная не дифференцированы, а претворены в общее понятие «чудесного», о чем свидетельствуют и сохранившиеся авторские инскрипты на издании «Трех серпов», которые с достоверностью не только раскрывают особое, поистине священное чувство писателя по отношению к Николаю Угоднику, но и объясняют природу созданного им на основе фольклорных и агиографических источников образа: «Немыслимость, невозможность подойти к Богу побудила человека создать легенду о праведном человеке — Николе Чудотворце. Так возник образ Николы Мирликийского в четвертом веке в Византии. И в веках сложились легенды: чудеса при жизни и чудеса по смерти праведного человека. И вышли на Русь сказкой. А в русских веках Никола Угодник и Чудотворец — заместитель Бога на русской земле» [505].
В отличие от житийной традиции, существующей по строгим канонам, народная сказка более раскрепощенно обходится как с самим образом Святого, так и с реалиями жизни. Никола Угодник, не пользующийся понапрасну своим даром чудотворения, — это герой наивной мифологии, которая остерегается прямых проявлений совершенства [506]. Именно такая простота и человечность открылись Ремизову в фольклорных сказаниях о Святом. Свое понимание легендарного героя он запечатлел в надписи на втором томе «Трех серпов», обращенной к жене: «25. 1. 30. Paris. Многое из того, что чувствую, написал я в этих легендах. Я хотел представить человека, изнеможенного жалостью своего сердца и только чудом умудренного избранностью своей и благодатью. Так вышел Николин образ, именно умудренная жалость» [507].
Ремизовский Никола максимально приближен к простому смертному человеку не только в силу оригинальности художественного мышления автора, но и по законам «вероимности» народного сознания. Сказка позволяет «очеловечить» божественного героя, наделить его свойствами простого человека, обнаружить в нем характер и индивидуальность. Николай Угодник становится функционально «волшебным помощником», а не чудотворцем в религиозном смысле этого слова. Легенды Ремизова отражают не только неизменную способность мифологического сознания к адаптации архаического культа к современным условиям, но и потребность в непосредственном переживании чудесного явления Николая Угодника. Именно такие свойства делают миф реальностью, «живой жизнью». Закономерности, раскрывающиеся в самом мифе и в сознании его носителей, в свое время были выражены учителем Ремизова — А. Н. Веселовским: по его наблюдениям, доверие в мифологическом повествовании «вызывают не описания единичных событий», а «синтетические образы действительности»: «миф становится формулой нового, принимая его историческую обстановку и местный колорит» [508]. Так, в частности, человек Средневековья приближал христианское предание к своим нуждам и представлениям.
Продукты мифологического сознания — апокрифы, легенды или сказки — заряжены своим особым символическим смыслом и потому рассчитаны только на универсальное воздействие. Для мифомышления одним из высших гносеологических критериев является полнота восприятия мира, а не поиск истины (как для научного сознания) и не вера (как для сознания религиозного). Замечание Ильина о нехудожественности рассказа о святом, «прелюбезно лобызавшем» свою отрубленную голову (имеется в виду апокрифический вариант жития Меркурия Смоленского XIII века) со всей очевидностью обнаруживает некорректное толкование критика, рассматривающего мифологический нарратив как произведение религиозного искусства и совсем не принимающего во внимание синкретически универсальный характер мифа. Смешение «религиозного» и «сказочного», по мнению философа, «нарушает закон вероимности», однако для мифологического сознания характерна совсем другая дилемма: оппозиция «сакрального» и «профанного». Или продукты мифологического творчества абсолютно сакральны — и потому вопрос об их «вероимности» вообще не должен ставиться, или они нуждаются в доказательствах и вере — и тогда это, безусловно, важнейший признак особого, профанного восприятия.
Примечательно, что этот несколько неожиданный в контексте письма агиографический сюжет нашел отражение в диалоге двух героев романа Достоевского «Братья Карамазовы», а впоследствии был прокомментирован известным исследователем мифа А. Ф. Лосевым: «…Петр Александрович Миусов рассказывал Ф. П. Карамазову о том, что в одном житии из Четьих-Миней, один мученик, когда отрубили ему голову, встал, поднял свою голову и „любезно ее лобызаше“. Ф. П. Карамазов говорит: „Правда, вы не мне рассказывали; но вы рассказывали в компании, где я находился, четвертого года это было дело. Я потому и упомянул, что рассказом сим смешливым вы потрясли мою веру, Петр Александрович. Вы не знали о сем, не ведали, а я вернулся домой с потрясенной верой и с тех пор все более и более сотрясаюсь. Да, Петр Александрович, вы великого падения были причиной. Это уж не Дедерот-с!“ И когда Миусов говорит: „Мало ли что болтается за обедом… Мы тогда обедали“… то Карамазов резонно отвечает: „Да, вот вы тогда обедали, а я вот веру-то и потерял!“» — «Действительно, — заключал Лосев, — только очень абстрактное представление об анекдоте или вообще о человеческом высказывании может приходить к выводу, что это просто слова и слова. Это — часто кошмарные слова, а действие их вполне мифично и магично» [509].