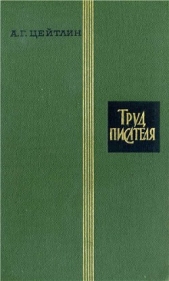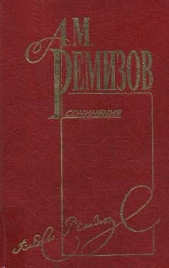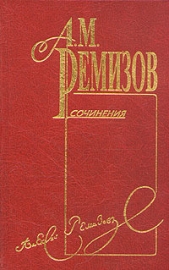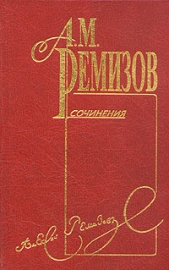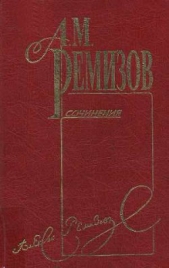Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя

Алексей Ремизов: Личность и творческие практики писателя читать книгу онлайн
Маленьким и робким человеком, нередко прячущимся от жизни за нелепыми шутками, казался А. М. Ремизов (1877–1957) на фоне модернисткой богемы начала прошлого века. Однако каждая книга этого чрезвычайно плодовитого писателя обнаруживала неожиданные ресурсы его творческой натуры, поражала современников новизной художественных форм, глубиной мировоззрения и масштабом самораскрытия авторского «Я».
В своем новом исследовании Елена Обатнина рассматривает полувековой творческий путь Ремизова как прямое выражение его необыкновенно одаренной, новаторской и внутренне свободной личности. Писатель предстает демиургом неповторимых художественных миров, возникавших в процессе разнообразных творческих практик. Креативный опыт оказывается результатом не только упорного, ежедневного литературного труда, но и продуктом особого стиля жизни, основанного на постоянном поиске новых смыслов бытия посредством уникальных экспериментов в области литературного быта, мифотворчества и даже снотворчества. Книга адресована филологам и культурологам, а также всем тем, кому интересен феномен творческой личности Серебряного века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
После выхода в свет книги «Кукха», посвященной В. В. Розанову, это обезьянье слово, переведенное автором как «влага», дало мифологическое имя всему комплексу представлений об образе философа. Воссозданный в книге вдохновенный момент рождения сакрального слова насыщен эротической космогонией. И если первое из приведенных определений — «влажность сквозьзвездья» — может показаться поэтической метафорой, то сексуальная направленность последующих за ним метонимий очевидна: «…живая влага, Фалесова hugron, мировая „улива“, начало и происхождение вещей, движущаяся, живая, огненная, остервенелая, высь скори, высь быстри, высь бега, жгучая, льнущая — / я скажу — / на обезьяньем языке словом — одним / словом: / кук — ха — / кук — ха! / Кукха, проникающая мир сквозь звезды, устой подзвездья, сама живая жизнь, живчик, семя, выросшее и в букашку и в козявку 3 ½ миллиона в Лондонском музее всяких разных козявок, смотрите! — и в человека с беспокойной, как сама кукха, мыслью от Фалеса до — / кукха, проникающая в кукху, / самопознающая! / кукха, вырывающаяся из себя — / хочу знать само! / кукха, где все — / одно сердце, / одна жизнь, / букашки, козявки, таракашки, / слоны, / медведи, / коровы, / люди — / вырастающая человеком / в самочеловека — / в пирамиду / В.В. / Розан- / ов» [480]. Последними строками, графически изображающими пирамиду с обращенной вниз вершиной (так же завершался и каждый из «Заветных сказов»), автор подчеркнуто демонстрировал фаллическую символику, с которой у него ассоциировалось имя философа.
Критерии художественности
К концу 1920-х годов, когда за А. М. Ремизовым закрепилась слава признанного мастера стиля, почти все произведения писателя рецензировались в весьма благожелательном тоне. Идиллию нарушил известный религиозный философ И. А. Ильин, который в начале 1931 года приступил к чтению цикла, состоявшего из четырех публичных лекций, в Русском Научном институте при Берлинском университете. В письме от 28 декабря 1930 года он сообщал писателю: «Читаю в этом году от Русского] Научн[ого] Института по-немецки в помещении здешнего университета курс в 6 лекций (двухчасовых) — о Современной русской худож[ественной] литературе. „Введение“ и „Шмелев“ — прошли. Теперь идет прежде всего „Ремизов“ (13 января). Я был бы Вам очень признателен, если бы Вы мне написали, какие Ваши произведения и в каком издании вышли по-немецки — я их перечислю на лекции. <…> Сто лет мы с Вами не виделись (с 1927 года)» [481].
Вероятно, в ответ на приятное сообщение Ремизов отправил в подарок Ильину вышедший в Париже двухтомник «Три серпа. Московские любимые легенды» (1929). Книга, хотя отчасти и состояла из уже известных притч, тем не менее, была значительно дополнена новыми текстами, раскрывающими феномен русского культа святого Николая Мирликийского. В ней широко использовались византийские жития Метафраста и Николая Сионита, легенды, возникшие позднее в Европе, а также славянский фольклорный материал. Первые ремизовские обработки народных сказок и легенд о Николе были созданы в Петрограде и включены в сборники военной поры «За святую Русь» (1915) и «Укрепа» (1916). Однако уже в 1917 г. писатель сформировал целый сборник «Николины притчи». Второй сборник «Никола милостивый. Николины притчи» (М.-Пг., 1918) вышел в издательстве «Колос» и представлял собой небольшую книжку, составленную из ранее опубликованных пяти сказок. Позже в эмиграции был издан сборник «Звенигород окликанный. Николины притчи» (Париж, 1924), повторивший, за исключением первого текста, все сказки о Николе, написанные в России. Особенность книги также заключалась в присоединении второй части, под названием «Жерлица дружинная», состоявшей из текстов Ремизова, сочиненных к картинам Н. К. Рериха. Об этом дополнении З. Гиппиус писала в своей рецензии на сборник: «Следует пожалеть, что „Николины притчи“, как книга, испорчены приложенной к ней „Жерлицей Дружинной“ („к картинам Рериха“). Не вдаваясь в критику „Жерлицы“, скажу лишь, что, пристегнутая к „Николе“, она есть верх безвкусия. Тут, впрочем, согласны все, не исключая и самого автора, к чести которого надо заметить, что неудачное соединение совершилось по „независящим от него обстоятельствам“» [482].
Поэтика Николиных легенд в ремизовской обработке показалась Ильину столь существенной (особенно в контексте его большой теоретической работы об эстетическом каноне), что он обратил свои замечания непосредственно к писателю. Совсем скоро Ремизов прочитал о своей книге неожиданно резкие слова:
«…не могу (не] сказать Вам от себя, что Легенды о Николе в Трех Серпах меня огорчили. Это играющее смешивание эпох производит впечатление иронического отношения к сюжету: как заведомо и наверное не могло быть такого междуистороического все-смешения — так значит автор и к самим чудесам Николая Угодника относится заведомо несерьезно, с играющей насмешкой. Вот осадок от чтения, и Вы представить себе не можете, дорогой Алексей Михайлович, какая темная, протестующая грусть родится от этого вдруг: как если бы кто-нибудь священному Предмету зачем-то язык показал <…>. Курс мой о „Современной русской литературе“ собирает людей, хотя могли бы ходить и больше. <…> Говорил я о Вас 1½ часа (без перерыва)…»
Содержание ответных разъяснений писателя на эти короткие, но принципиальные критические замечания философа отражает фрагмент текста из записной книжки Ильина, датированного 2 февраля:
«Ремизов пишет мне, что он избрал „живописный метод“; что он решил „нарядить“ легенды „в современность“; что „военачальников“ он может себе представить только „командирами, комиссарами карательного отряда“ — что это „живая жизнь“: „не усечение мечом“, а „к стенке“» [483].
Накануне, 1 февраля, Ильин отправил Ремизову большое письмо, значительные отрывки которого совпадают с упомянутым конспектом [484]:
Пришла такая полоса, что я за все Ваши жизненные и литературные дары, и зная о том, что мы все должны Вас беречь и радовать, — могу отвечать Вам только одними огорчениями.
Что же мне делать?
I. На Ваше последнее письмо: нет моего согласия, а почему — тому следуют пункты.
1) Вытерзанные из лекции моей фразы о Вас я сообщил Вам строго доверительно. Ни одна мать не согласится показывать всем желающим глаза и нос своего нерожденного еще на свет младенца. Это было духовно и эстетически — противоестественно. Так же испытываю и я.
2) Моя лекция о Ремизове не эксцесс, а начало подведения итогов долгой лабораторной работы. Дело идет о новом критерии художественности, след[овательно] о новой эстетике и новой литературной критике. Здесь весит все и каждое слово. Здесь все очень ответственно. Без обоснования все будет продешевлено и пущено на ветер. Тут весит и да и нет; нельзя публиковать отрывки из конкретного да, по чьему-либо адресу. Опыт о Ремизове должен быть опубликован целиком, так же как и другие опыты [485].
3) Питаю органическую неприязнь к эфемерным начинаньицам, лишенным идеи или имеющим „идею“, обратную тому, что необходимо России. Что такое „Слоним“?! Не знаю. Но что такое Осоргин, знаю хорошо: литературная вошь.
4) Литературе сочувствую. Вы художники можете печататься даже и в Современных Жописках (кажется, я описался! pardon!), но выпускать мои первые критические суждения в отделе рекламы — не согласен; да еще у Осоргина.
Нет — пускай „слонят“ без меня. „Да благослови Вас Бог, а я не виноват“.
Поэтому всячески протестую против Вашего, психологически мне столь понятного, замысла.
Что значит „замалчивают“? А меня не замалчивают? Разве „Русский колокол“ все не замалчивают, в том числе и П. Б. Струве? [486]
„А ты себе своей дорогою ступай“: помолчат (это вроде лая) и сами будут забыты историей. Ведь эти писаки всегда так: они воображают, что это они делают писателей!.. Разве можно „замолчать“ Ремизова. Его можно критиковать; и эта критика будет делом литературы, а не писачества. Но важнее то, чтó Ремизов думает о Зайцеве и Маковском, чем то, что Макайцев и Заковский считают нужным не писать о Ремизове.
Вы, дорогой Алексей Михайлович, <b>должны отвыкнуть ходить „стаями“</b>
II. Позвольте еще два слова о „канонах“.
Нет, я не ханжа; и вообще; и в частности в области казенно-штампованной агиографии. Бесконечно жалею о том, что мы с Вами видимся мало. „Стаю“ я Вам бы не заменил (где уж нам уж…); и „кукху“ я бы не развел; а может быть творческую „ахру“ (в отличие от разрушительной „ахры“), мы с Вами и развели.
Я имел в виду другое. Верю, что Вы „язык не показывали“; и на сем укоре гипотетически не настаиваю. Я имел в виду следующее.
Есть художественный закон вероимности, не мною сочиненный, но мною (но „для себя“, а может быть потом и „для других“) открытый. Читательское художественное воображение должно иметь возможность веру яти реченному; и колебать или подрывать эту веру нельзя. Мало того, и напрягать эту веру, эту доверчивость к даваемым образам, т. е. к их реальности (к тому, что это так всамделе было!) — можно только до известной степени.
Напр[имер], рассказать, что три волка съели друг друга — можно только под занавес — это равносильно тому, что захлопнуть крышку фантазии, или коротко говоря „невообразимое да не изображается“.
Эта граница может переступаться на разные лады. Вы подходите к этой границе, напр[имер], когда пишете:
„Не отстают за чумичелой в острых хохолках пери и мери, нуды и муды шуты и шутихи ягиные: сцепились куцые ногами и руками, катаются клубком, как гаденыши“ [490].
Это — великолепно: но уже на грани вообразимого и изобразимго. Это подход к границе — через истончение или улетучение образа; воображение соглашается на это, если ведет большой мастер и если ему (воображению) есть за что зацепиться („острые хохолки“, „шуты и шутихи“, „куцые“, „руками и ногами“ etc.).
В „Николиных легендах“ Вы переступаете эту грань и не через „истончение“ или „улетучение“ образа, а через <b>смешение</b>
Нельзя рассказывать, — пишет он, — напр[имер], о том, что „Иван Царевич — забеременел, и что у него прекратились месячные“…; нельзя рассказывать о том, что „Марья Царевна сама себя выплюнула и потом сама себя опять проглотила“, — т. е. можно, но это за гранью художественности [491]. Так, нехудожественен миф о Зевсе, рожавшем из головы и из прочих частей тела; нехудожественны картины, на коих Бог тащит Еву из Адамова бока; нехудожественен рассказ о святом, „прелюбезно лобызавшем“ свою отрубленную голову.
Все это нарушает законы образного плана в искусстве, подобно картине Пикассо — разложившего на куски лица по различным углам полотна.
В „Николиных притчах“ — Вы нарушаете закон вероимности совсем по-особому: заведомым, вопиющим анахронизмом. При первом же анахронизме — воображение спотыкается и говорит: „Э-э! Да это он нарочно“ или „ах, это просто выдумка“ — оно тотчас же перестает верить и больше воображать не хочет.
Полет Николы на ковре-самолете нарушает тот же закон вероимности, но еще иначе: в легенде о чуде — вероимность обострена с самого начала, доверчивость воображения необходимо беречь по-особому, ибо эта доверчивость священно-трепетная и религиозная. Вплести ковер-самолет может простонародье, для которого религия и сказка сращены в магии: в магическом мифе духовный опыт у простонародья недифференцирован, примитивен — там искусство не выделилось из жизни, там собирается только материал для художественности, а самое художественное произведение еще надо создать отбором. Там все идет „durcheinander, wie Mäusdreck und Koriander…“ [492]
И вот вероимность священно-трепетного, религиозного воображения, которое особенно чутко, но зато готово верить в подлинную окончательно-жизненную реальность рассказа — нельзя разочаровывать „ковром-самолетом“, т. е. говорить: религиозное и сказочное есть одно и то же.
Измерение религиозно-художественное и сказочно-художественное имеют разные вероимности; и несоблюдение этой грани — убивает и разочаровывает всякую вероимность. А с погасшей вероимностью — кто же может и хочет читать художественное произведение. „Мемуарная“ и „повествовательная“ формы с „точными“ деталями быта стремится подкрепить вероимность в душе читателя; анахронизмы, срывающие бытовую достоверность, а также смешение сказки с легендою — угашают художественную вероимность. Читатель очень остро чувствует, что „эта бывальщина-небывальщина“; что это как бы балагурство о священном (ибо Никола — это священное); или еще хуже, что это разочаровывающее трактование священного — и протестует.
Если Вы хотите непременно „нарядить в современность“, то оставьте совсем бытовой аксессуар четвертого или девятого века Византии! Никола может и должен являться красноармейцам и комсомольцам. Это будет вероимно. Он может явиться к машинисту, к летчику, к члену совнаркома. Но сам летать на аэроплане он не может, ибо он материализуется в пространстве, где хочет. Можно и „комиссаров“ к „стенке“ (такие случаи известны), но напр[имер], газовую бомбу он бросать не должен. Здесь есть художественные законы, преступание коих вредит делу.
Один комсомолец кощунственно с руганью выстрелил Николе в глаз; пуля рикошетом убила его самого в глаз наповал. Это в художественном смысле еще „не сделано“, но как образ-сюжет — вполне вероимно. И т. д. Простите мне эту диссертацию! Когда сто лет думаешь над чем-нибудь, живя и чувствуя, — то не дай Бог колупнуть; так и попрет. Но вот потому и прошу Вас — ничего не печатайте у „слоняющихся Осоргиных“ или у „осоргинских слонят“ из моего. Это будет духовно неверное дело и я запротестую.
Душевно Вас обнимаю, и надеюсь, что Вы не опалитесь на меня за критику. Пущай будет так: „Ильин лает, а ветер носит“. А если я замечу, что Вы опалились на меня — тогда крышка, только Вы моих „откликов“ и видели. Каюк! <…>