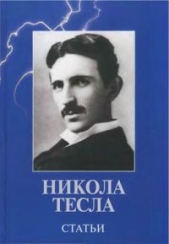Обратный перевод
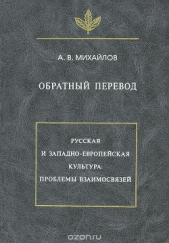
Обратный перевод читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Для Nihilist’a, отрицающего всякое реальное бытие, если он хочет остаться консеквентным в своих суждениях, нет природы ни оживленной ниже мертвой, следовательно нет ни жизни ниже смерти. Если мы и покушались оспаривать их положения, то одно мы должны принимать за неоспариваемую истину, что они из ничего созидают ничто» [49].
Опыт с порезанным пальцем и укушенной ногой представлялся Добролюбову чересчур ребяческим, между тем это — попросту ссылка на так называемый критерий практики, вдосталь известный нам по «Материализму и эмпириокритицизму» [50], — разумеется, критерий этот не в силах ничего переменить внутри фихтеанской философии, не более, чем жан-полевский «Ключ к Фихте*. «Зато г. Берви, — пишет Добролюбов, — очень остроумно умеет смеяться над скептиками, или, по его выражению, “nihilist’aMH”» [51], и начинает издеваться над самим г. Берви.
Книга В. Берви — это ценный отголосок немецких споров о нигилизме; само немецкое написание слова (кажущегося ему непривычным в русском написании) и почти непременная отсылка на творение ничего из ничего свидетельствует об этом. Добролюбов же своей рецензией 1858 года сыграл некоторую «объективную» роль, когда воспользовался словом «нигилизм* перед более широкой аудиторией и именно в те годы, когда слову «нигилизм* было суждено использоваться по-русски все чаще и чаще, — так, как если бы будущее появление в свет романа И. С. Тургенева «Отцы и дети* самому слову задавало некоторое ускорение.
В том споре, который в свое время развернулся между Б. П. Козьминым и А. И. Батюто относительно зависимости или независимости Тургенева от употребления слова «нигилизм» М. Н. Катковым, в споре, в котором А. И. Батюто фактически был прав, — М. Н. Катков пользовался словом в прежнем историко-философском смысле, восходящем к критике фихтеанства, а Тургенев по-новому пере-определяет слово [52], — попутно подтвердилось, что к эпохе появления в свет «Отцов и детей* к этому слову прибегают все чаще, и это весьма показательно: чтобы произвести на свет «русский нигилизм», потребовалось более упорное, более интенсивное продумывание содержаний самого этого слова. Слово начало вступать тут в свои права на русской почве, отражая, как это предположил П. Тирген, «немецкие дебаты сороковых и прежде всего пятидесятых годов» (см. выше). Однако, как все это происходило конкретнее, только еще предстоит выяснять.
Если же вернуться теперь к рассказу Теодора Фонтане из времен его молодости, то тут нам надо будет признать, что за известной недовы-ясненностъю такого русско-немецкого мыслительного процесса опосредования, начинает, как почти полная туманность, проступать иное, предыдущее звено опосредования: пока мы недостаточно знаем о судьбах нигилизма и нигилистического в России 1820—1840-х годов, мы мало что можем предположить относительно тех мыслительных заготовок, которые могли перетечь из России в Германию по самым «хорошо информированным» каналам, вроде того, какой существовал между Россией и Т. Фонтане благодаря деятельности В. Вольфзона. Однако не исключено, что уже в немецких дебатах, предшествовавших поразительному явлению на свет совсем нового русского нигилизма, каким-то образом отозвался русский фермент.
Был ли Теодор Фонтане в своем рассказе точен? Или же память все же подвела его? Пока нет ответа…
7.
Тот способ, каким А. И. Батюто определил новый, пошедший от Тургенева нигилизм, — «“нигилизмом” называется Идеология разночинной демократии» [1] — обладает теми же достоинствами и недочетами, что й определение Манфреда Риделя, относящееся к нигилизму фихтеанского времени. Достоинство — в том, что оно прорезывает хаос явлений; недочет же — в том, что оно отнимает у исторического движения смысла право быть сколь угодно противоречивым, пестрым и не связываться даже и самим собой, своей обозначившейся внутренней сущностью. Другими словами, недочеты — почти в том же самом, что и достоинства, при удаче в главном: удалось отметить коренной сдвиг внутри слова.
Помимо этого, такое определение дается в русских терминах, и если мы допустим существование некоего культурного моста между Германией и Россией, моста, по которому хотя бы полуподготовленный на Западе новый смысл «нигилизма» перелетает в Россию, получая тут окончательную обработку, — такой мост и есть, — то в принципе надо задуматься о некотором определении, в котором специфически-русское «разночинство» было [бы] заменено чем-то более общезначимым.
П. Тирген, размышляя о таком мосте, настоятельно отсылает к повести Карла Гуцкова «Нигилисты*, опубликованной в 1853 году [2], и обещает в дальнейшем «подробное обращение к вопросу о Тургеневе и Гуц-кове» [3]. Отдельные, случайные упоминания имени Гуцкова у Тургенева, кажется, не дают сколько-нибудь осязаемого материала [4], однако в подобных ситуациях дело мастера боится, и нам остается ждать такого исследования. Сейчас же уместно бросить взгляд на произведение К. Гуцкова.
Когда пишут, что Гуцков издал в 1853 году рассказ «Нигилисты», то допускают небольшую неточность. Сначала рассказ появился в журнале «Unterhaltungen am häuslichen Herd» [5], эти же «Беседы у домашнего очага» относились к тому типу семейных журналов, для которых вторая половина XIX столетия стала золотым временем; о них выразительно писал Ф. Мартини в своей истории немецкой литературы этого периода [6]. В журнальном варианте рассказ именовался не «Нигилисты», а «кольцо, или Нигилисты», что почти то же самое, а позднейшее свое название он получил, будучи включенным своим автором в сборник рассказов «Этот маленький мир чудаков» [7] (как можно было бы перевести его заглавие). Относительная известность этого произведения — о нем, как мы знаем, помнили и Г. Бюхман и, в своей ранней статье, М. П. Алексеев, — конечно, объясняется исключительно тем, что все его содержание поставлено под знак интересующего нас сейчас слова, которое и всегда составляло предмет известной научной озабоченности. Произведение это, как видим, программно соотнесено с феноменом нигилизма, и вдобавок ко всему, «нигилист» в нем, притязающий на новое разумение и подлежащий ему, точно так же предшествует здесь «нигилизму», как когда-то, в «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля «романтик» предшествовал понимаемому в новом смысле «романтизму». Поэтому рассказ К. Гуцкова обязан занять свое место в общей истории нигилизма.
Чуть изменив заглавие своего произведения, автор небезосновательно поменял местами два пласта его: один из них, более лежащий на поверхности и внешний, видимый с первого взгляда, собирается вокруг исторических событий и вплетенных в них судеб персонажей повествования; другой же, на который указывало «кольцо», скорее, скрыт в глубине повествования, это символический пласт, он вскрывает самое интимное из всего, что совершалось в душах героев, и, со стороны литературной, он носит отчетливые следы тех уроков, которые Гуцков извлек из классической немецкой литературы, из творчества Гете. Конечно, такое интимное движение неразрывно соединено со всем происходящим на исторической поверхности, одно проявляет и открывает другое, одно, по замыслу, соотражается с другим. При этом у Гуцкова первый пласт — общественно-исторический — столь громоздко нависает над вторым, что почти его подавляет, оставляя от него некоторые остаточные контуры, так что перемена заглавия была уместной и произведение, насколько оно вообще когда-либо читалось, запомнилось с таким заглавием — «Нигилисты».