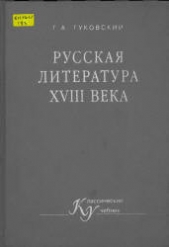Классическая русская литература в свете Христовой правды

Классическая русская литература в свете Христовой правды читать книгу онлайн
С чего мы начинаем? Первый вопрос, который нам надлежит исследовать — это питательная среда, из которой как раз произрастает этот цвет, — то благоуханный, то ядовитый, — называемый русской литературой. До этого, конечно, была большая литература русская, но она была, в основном, прицерковная.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Это было два события: 1966 год – это ровно через два года после снятия Хрущева, и это был знак, что задышали другим воздухом; и 1976 год – вышло издание без купюр. Конечно, фактически “эра Булгакова” придёт, начиная с 60-х годов, но это уже будет эра другого менталитета.
Лекция № 22 (№57).
Достославные годы: 1937-1938 годы [239] и свидетельство обвинения [240].
1. Действие “Мастера и Маргариты” – приметы времени: 1928 год.
2. Что было потом? – “замордованная воля” (по Солженицыну).
3. “Реквием” Анны Ахматовой: свидетельство обвинения.
4. Россия, год 1937: год Божественной педагогики.
Действие “Мастера и Маргариты” разворачивается в последний год НЭПа, то есть в 1928-1929 годах. Формально оно может быть только до 1931 года, потому что в 1932 году Тверская стала улице Горького, а в романе эти несчастные раздетые женщины бегают по Тверской. 1930 год – это первый искусственный голод, так как при среднем урожае у крестьян было отнято всё. Конечно, крестьяне хлынули в города и городишки, чтобы купить хлеба. В 1931 году введут карточки.
Ничего этого в романе нет, так как в романе в ближайшем гастрономе можно было купить всё. Например, Воланд посылает Стёпину домработницу в ближайший гастроном и она сразу же приносит маринованных грибов, черной паюсной икры и, вообще, всё, что необходимо. Люди не знают очередей – это именно примета времени – это последний год НЭПа.
В 1934 году был выдвинут лозунг, уже Сталиным, что “незаменимых людей нет”, во-первых, а во-вторых, только с 1934 года ввели общеобязательную трудовую повинность и ввели трудовые книжки [241].
В 1936 году Горькому свернули шею, и, наконец, 1937 год – это, действительно, какое-то коллективное лакейство. Если мы читаем обращение работников высшей школы к товарищу Сталину (“Правда”, 28 мая 1938 года), то – “Повышая свою революционную бдительность, мы поможем нашей славной разведке, возглавляемой верным ленинцем, сталинским наркомом Николаем Ивановичем Ежовым, до конца очистить наши высшие учебные заведения, как и всю нашу страну, от остатков троцкистко-бухаринской [242] и прочей контрреволюционной мрази”. И это пишут и посылают. Мы же не примем всё совещание в тысячу человек за идиотов, а только за опустившихся лжецов, покорных собственному завтрашнему аресту.
Солженицын называет это явление “замордованной волей”. Вот что он пишет буквально: “Оценивая 37-й год для Архипелага, мы обошли его высшей короной. Но здесь для воли этой коррозийной короной предательства мы должны его увенчать. Можно принять, что именно этот год сломил душу нашей воли и залил ее массовым растлением”.
И тут же он противоречит сам себе. “Но даже это не было концом нашего общества, как мы видим теперь – конец вообще никогда не наступил. Живая ниточка России дожила, дотянулась до лучших времён, до 1956‑го, а теперь уж тем более не умрёт. Сопротивление не выказалось въявь, оно не окрасило эпохи всеобщего падения, но невидимыми тёплыми жилками билось, билось, билось”.
Это только введение в то, что есть. Солженицын далее перечисляет отличительные свойства той эпохи; не самого архипелага, а именно воли.
Люди, о которых пишет Солженицын, что, мол, цель заключенных в лагере была выжить любой ценой, от которой он сам отказался уже в лагере, это совсем не те люди, так как это заведомо не верующие, это люди совсем другого менталитета.
Поэтому видно, что общество невидимой поляризацией разбивается на две не равные части: одни держались за режим (то есть, держались за своё кажущееся благополучие) и поэтому для них существую признаки замордованной воли; другие целиком полагались на волю Божию и не держались уже ни за что.
Первым признаком эпохи Солженицын ставит страх. Анна Ахматова в этом смысле как-то с ним сходится.
Узнала я, как опадают лица,
Как из очей выглядывает страх,
Как клинописи жесткие страницы
Страдание выводит на щеках,
Как волосы из пепельных и чёрных
Серебренными делаются вдруг,
Улыбка вянет на устах покорных,
И в сухоньком смешке дрожит испуг.
И я молюсь не о себе одной,
А обо всех, кто там стоял со мною
И в дикий холод и в июньский зной,
Под красною ослепшею стеною.
Второй признак эпохи по Солженицыну – прикрепленность. С 1934 года была введена прописка и режим прописки. Этот режим прописки потом был окрещен после войны как второе крепостное право большевиков - ВКП(б), то есть эту аббревиатуру расшифровывали иначе.
Третье отличительное свойство – это скрытность, недоверчивость. Солженицын приводит много таких примеров, но я приведу один свой собственный, который относится к 1984 году. В 1984 году (за год до начала горбачевского царствования) было устроено полуофициальное чтение в Абрамцеве на не очень круглую дату со дня рождения Хомякова (180 лет со дня рождения). Первой там выступала я и после выступления меня останавливали много людей из так называемых бывших людей (потом они стали называться уцелевшими). Например, будущий секретарь дворянского собрания России Елизавета Владимировна Селиванова и говорила – “как это у Вас получается, ведь Вы говорите то, что думаете?”
Конечно, скрытность была и объясняется она отчасти и боязнью стукачей, но то, что пишет Солженицын – не мыслимо; до такой степени, что, например, жена мужу не сообщает, что она когда‑то сидела на Соловках, так как боится от мужа доноса [243].
Четвертый признак – это всеобщее незнание. Естественно, что все вызываемые (даже для слежки и даже отказывающиеся пойти на вербовку) давали подписку о неразглашении. Это неразглашение и приводит ко всеобщему незнанию и Анна Ахматова пишет
Хотелось бы всех поимённо назвать,
Да отняли список и негде узнать.
Для них соткала я широкий покров
Из бедных, у них же подслушанных слов,
О них вспоминают всегда и везде,
О них не забуду и в новой беде.
А если заткнут мой измученный рот,
Которым кричит стомиллионный народ,
Так пусть и они поминают меня
В канун моего поминального дня.
Но та же Анна Ахматова вносит свой собственный корректив - не не знали, а не хотели знать.
Довольно известная фигура - Лев Копелев вспоминал, что его даже и приютили, ему даже и помогали, но не хотели слышать никаких рассказов о лагерных днях, потому, говорят, что, зная то, как же жить?
Пятый пункт – это стукачество. Надежда Мандельштам (вдова Мандельштама) вспоминает, что люди, поддавшиеся на вербовку, будут заинтересованы в незыблемости режима (это мы видели в наших 90-х годах). Но еще лучше об этом напишет Пётр Иванов в книге “Тайна святых”. В его апокалиптической главе есть сюжет “Дело десяти царей”. Там он пишет: “Заподазривание, поощряемое и награждаемое сверху, создаст атмосферу какой-то принудительной вражды друг к другу. Откуда идет заподазривание? – осуждение ближних всегда было главным пороком христианских обществ, утративших любовь”. (Как и до Траяна в древнем Риме учитывались даже безымянные доносы).
Шестой пункт – предательство, как форма существования. В том числе и самая форма предательства – это вести себя так, как если бы ничего не произошло. Например, Солженицын пишет, что академик Сергей Вавилов после расправы над своим великим братом пошел в лакейские президенты Академии Наук (“усатый шутник в издёвку придумал – проверял человеческое сердце”). А и Алексей Николаевич Толстой, советский граф, остерегался не только посещать, но и деньги давать семье своего пострадавшего брата. Леонид Леонов запретил своей жене, урожденной Сабашниковой, посещать семью ее посаженного брата С.Р. Сабашникова. А легендарный Димитров, этот лев рыкающий Лейпцигского процесса, отступился и не спас, предал своих друзей Попова и Танева, когда им, освобожденным по фашистскому суду, вкатили на советской земле по 15 лет - за покушение на товарища Димитрова (отбывали в КРАС-лаге в Красноярске).