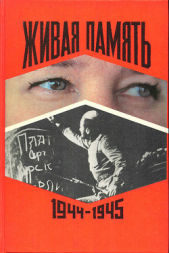Сталинградский апокалипсис. Танковая бригада в аду

Сталинградский апокалипсис. Танковая бригада в аду читать книгу онлайн
Хотя дневники на фронте были под полным запретом, автор вел ежедневные записи на протяжении всего 1942 года. Этот уникальный документ — подробная летопись Сталинградской битвы, исповедь ветерана 254-й танковой бригады, прошедшей решающее сражение Великой Отечественной от донских степей до волжских откосов и от ноябрьского контрнаступления Красной Армии до отражения деблокирующего удара Манштейна и полной ликвидации «котла». За 200 дней и ночей Сталинградского побоища бригада потеряла более 900 человек личного состава и трижды переформировывалась после потери всех танков. Эта книга — предельно откровенный и правдивый рассказ о самой кровавой битве в человеческой истории, ставшей переломным моментом Второй Мировой войны.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
О вошебойке прослышали в бригаде. Приезжал смотреть военфельдшер Модзелевский и доктор Гасан-Заде.
Доктор просил командира роты изготовить им такой «агрегат». Михайловский обещал при возможности сделать.
Утром получил перевязочный материал и медикаменты. В медсанвзводе появилась новая женщина — жена бригврача Джатиева, военфельдшер. Откуда-то перевел ее. Высокая, яркая, светловолосая — крашенная перекисью, с тремя кубиками в петлицах. Познакомился. Зовут ее Ниной, несколько полноватая, лет под сорок. Здорово иметь рядом с собой женщину, жену, даже в таких условиях. А может быть, и плохо, если очень любишь. Подвергать таким опасностям любимого человека может только эгоист. Вакантных должностей в медсанвзводе нет. Как-то определил ее. Шура представила меня ей как воздыхателя Майи. Становлюсь объектом шуток, а как сам понимаю, громоотводом. И надо с этим смириться. Вот прошла рядом Майя, кивнула и даже не подошла к нам.
— Могу ли я после этого быть воздыхателем? — указал я на ее удаляющуюся фигуру.
— Не только воздыхателем, но и поедателем уже пора быть. А вы все скромничаете, — не унималась Шура.
— Как съешь это существо? Этой мадонной только любоваться.
— Вы любуйтесь, а съедят ее другие, — проговорила Шура. Мы рассмеялись.
Сильно вьюжило. Намело сугробы, трудно было идти в валенках. Мороз несколько ослабел, но при влажном ветре пробирал насквозь.
После обеда, по окончании перевязок и приема больных, решил пройтись в поисках более полноводного колодца. Сегодня утром каша похрустывала песком, как-то сошло, но дальше допускать такого уже нельзя. Посмотрел еще пару колодцев в этом районе поселка, вокруг них стояло много частей, и узнал, что к завтраку уже вычерпывали всю воду.
На обратном пути шел уже в сумерках. Проходя мимо одного дома, услышал музыку. Из неплотно затемненного ставнями окна виден был полосками свет, и слышна была знакомая мелодия танго «Брызги шампанского». Я невольно остановился.
До войны у меня был патефон с клепаной-переклепаной пружиной и с десятком пластинок. Среди них были и «Брызги шампанского», а на обратной стороне «Три поросенка» — быстрый танец — популярный фокстрот. В нашем классе патефон был только у меня, что делало меня «первым парнем на деревне». Если у кого из соучениц был день рождения или другой повод, меня приглашали из-за патефона, конечно. Мы собирались в доме именинницы с согласия родителей на чай с вареньем и пирогом. Гвоздем программы были танцы, и главным гостем был патефон. Так под эту знакомую мелодию я вернулся в прерванную войной гражданскую жизнь. Как бы трудно мы ни жили, а вспоминалась, как прекрасная сказка. Я даже не заметил, как меня уже порядком обсыпало снегом. Мои мысли прервала какая-то старушка в ватнике, пуховом платке, из-под которого почти не было видно лица. Откуда она взялась здесь?
— Чего стоишь, сынок?
— Музыку слушаю. У меня дома тоже был патефон и такая же пластинка.
— Заходи в дом, согреешься и послушаешь.
— А можно?
— Конечно можно, отчего же нельзя.
Я пошел за ней. Открыла калитку, пропустила меня и пошла к крыльцу. Я смел снег с валенок. Провела меня через сени в большую комнату, в которой располагались военные. Остановился у порога, снял шапку, поздоровался.
— Вот стоял под окном и слушал музыку, окоченел весь, снегом почти всего засыпало. Завела согреться, — сказала она всем и обратилась ко мне: — Проходи, снимай шинель.
Я откашлялся, еще раз поздоровался и стал пересказывать ту же историю:
— У меня дома тоже был патефон и пластинки точно такие: «Брызги шампанского», «Три поросенка», и другие, — старался я им объяснить и перекричать раздававшуюся музыку с залихватским хохотом «Трех поросят…» Я все еще стоял у порога, осматривался. Одна большая комната. Под потолком висела керосиновая лампа. Справа топилась русская печь, а за ней стояла пышная с большим количеством подушек никелированная кровать. Слева от порога — пирамида винтовок, минометы, противогазы, шинели и еще какое-то имущество, сложенное кучей, и дальше железная односпальная кровать, накрытая одеялом. Посредине, ближе к окнам — большой стол, на котором стоял патефон. Вокруг стола на скамейке и табуретках сидели красноармейцы, в большинстве пожилые, и младшие командиры.
Старушка, не раздеваясь, вышла из комнаты. Ко мне подошла девушка лет шестнадцати.
— Меня зовут Любой, — сказала она и спросила: — Ты танцуешь?
— В школе, бывало, танцевал и у подруг знакомых, — ответил я.
— Потанцуем?
— Можно, — пробормотал я, — прямо так? — и я показал на шинель, валенки…
— Снимай шинель.
Она сбросила валенки, влезла в туфли на высоком каблуке, подошла ко мне и доверчиво положила левую руку мне на плечо, а правую в ладонь мою.
Красноармейцы подкрутили пружину патефона, поставили головку на начало пластинки. Под мелодию «Брызги шампанского» мы медленно начали танцевать. Люди расступились, освободили нам больше места для танцев. Ноги в валенках не очень были послушны, еще не отошли от мороза, но во время танца стали отходить, почувствовал, что теплеют. Теплее стало и от прильнувшей ко мне Любы. Голова ее была приподнята и подбородком касалась моей шеи. Светлые волосы, рассыпанные по спине, достигали до моей руки, лежавшей между ее лопатками. Смотрела на меня голубыми неулыбающимися, грустными глазами.
Пластинка кончилась, и кто-то поставил ее сначала, и мы продолжали танцевать. Как попала сюда эта девочка-школьница? Кем ей приходится эта старушка? Я решил спросить ее об этом.
— Как вы сюда попали? Гражданских выселили отсюда еще в прошлом году.
— Мы жили в Сталинграде. Мама учительница. Отец пошел в ополчение. Когда началась массированная бомбежка города 23 августа, мы с мамой спустились в подвал дома, где просидели до утра следующего дня. Наш дом оказался разрушенным бомбой, и жить в нем уже было нельзя. Кое-что подобрали из зимних вещей и отправились к Волге в надежде переправиться на левый берег. В Омске у нас родственники, и надеялись добраться к ним. К переправам нас не допускали. Их бомбили, все горело вокруг. Скопилось много войск, беженцев, местных жителей. Соседи из нашего подъезда несколько дней протолкались здесь и не смогли переправиться. Убедились, что и нам переправиться не удастся, и пешком ушли сюда к тетке. Но семью ее здесь не застали. Дом был заколочен. Мы остались с мамой тут жить. К счастью, в погребе была оставлена картошка и еще кое-что, а то бы умерли от голода. Вскоре нас захватили немцы. Потом наши освободили, и пока живем здесь. Куда деваться? Где-то отец воюет, если жив. Живем надеждой, что найдет нас.
Так, в танце, я узнал ее историю. Мелодия не прерывалась, была бесконечной. Я плыл где-то в облаках, согрелся. Знакомая мелодия, близость Любы, благожелательные лица воинов, дом — увели меня от действительности. Зашла старушка, сбросила охапку дров, сняла платок, ватник, и я увидел еще молодую женщину лет тридцати пяти.
— Оказывается, партнера тебе нашла, Любушка. Танцуйте, дети, танцуйте. Дело молодое.
Мелодии не было конца, как и танцу. Я уже давно подумывал, что нужно остановиться, но первым не мог решиться. Наконец, мелодия прервалась. Перевернули пластинку на другую сторону, и раздалась быстрая, под фокстрот музыка и песня «Трех поросят». Мы стали танцевать фокстрот. Хватило меня еще на один раз, после чего остановился. Мне было очень жарко. Я уже был мокрый. Портянки в валенках сбились комом, и я сдался, попросил пощады, отдыха. И Люба вся разрумянилась, глаза повеселели. Сказали комплименты друг другу, красноармейцы нам аплодировали, а я присел на табурет и стал перематывать портянки. Зашла мать Любы, внесла чугун картошки и поставила в печь.
— Картошку вареную скоро будем кушать, — сказала она мне. Я заторопился, стал одеваться.
— Куда же ты, картошку будем кушать, посиди.
— Я скоро приду, обязательно приду. К своим надо, и скажу, где я буду.