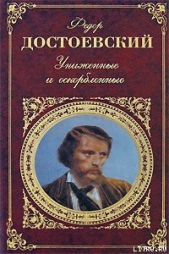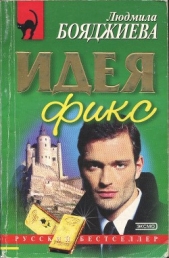Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы

Меж рабством и свободой: причины исторической катастрофы читать книгу онлайн
Известный петербургский писатель-историк приоткрывает завесу над «делом царевича Алексея», которое предшествовало событиям 1730 года, важнейшего периода русской истории, в котором обнаруживаются причины последующих исторических катаклизмов, захлестнувших Россию и разразившихся грандиозной катастрофой революции 1905 года. В это время у России появился шанс — выбрать конституционное правление и отказаться от самодержавия.
12+ (Издание не рекомендуется детям младше 12 лет).
В оформлении лицевой стороны обложки использована картина И. И. Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе».
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
4 февраля, чтобы хоть как-то нейтрализовать происшедшее, верховники собрали генералитет и Сенат и убедили подписать протокол собрания 2 февраля, когда было оглашено послание Анны с объявлением кондиций.
Протокол был подписан, но указы с полным титулом самодержавной императрицы шли во все концы империи.
Феофан злорадно писал: "Да тож верховникам весьма не любо стало и каялись, что о том прежде запамятовали посоветоваться, и когда в тот же день Синод посылал во все страны письменные титулования государыни формы, посылали и они; но титулы самодержавия, уже прежде оброненной, переменить не посмели".
Феофан мгновенно использовал промах Голицына, разослав указы Синода с полным титулом и сделав для верховников невозможным какой-либо иной принцип.
Оказавшись в затруднении, князь Дмитрий Михайлович вынужден был запросить консультацию у хворающего Остермана, но получил от него двусмысленный совет, который в конечном счете сводился к тому, что обнародовать кондиции имеет смысл только по приезде Анны, а до того разве что намекнуть о них в манифесте. Остерман знал, что с приездом Анны ситуация радикально переменится, и потому обнародование кондиций до ее приезда могло только помешать его замыслам. А замыслы эти были сколь определенны, столь и тщательно продуманы.
Как мы знаем, всю подготовительную работу провел Феофан со своими клевретами. Как свидетельствует французский посол Маньян, "некоторые наиболее хитрые люди из духовенства делали всякие усилия, чтобы восстановить мелкое дворянство против Верховного совета, главных членов которого изображали злодеями, желавшими изменить форму правления только для того, чтобы самим безнаказанно завладеть верховною властию, вследствие чего рабское положение дворянства стало бы еще невыносимее, чем при сохранении самодержавия государыни".
Остерман вступил в действие несколько позже, когда верховники совершили ряд труднопоправимых ошибок, раздраживших шляхетство.
Прежде чем приступить к описанию его деятельности в эти недели, надо вспомнить, что представлял собой вице-канцлер.
Если главные действующие лица, с коими мы встречались до сих пор, — князь Дмитрий Михайлович, архиепископ Феофан, Татищев, — вне зависимости от того, насколько здравы были их политические идеи, на пользу ли России шла их деятельность или во вред, были сильными и крупными личностями, барон Генрих Иоганн Остерман, сын вестфальского пастора, был фигурой совершенно иного человеческого масштаба. В отличие от всех вышеназванных, равно как и от Ягужинского, и от другого "служилого немца" — Миниха, Остерман был трусоват, скрытен, не обладал ни силой страстей, ни политической убежденностью, которая не раз ставила многих его современников на край гибели, а некоторых привела на плаху. Он в конце концов пал жертвой собственного интриганства.
При этом он был человеком глубоко незаурядным, со своим особым низменным дарованием, со своей генеральной идеей, являющей собою, так сказать, корень квадратный из великой имперско-бюрократической мечты Петра I.
Корсаков охарактеризовал его выразительно и лаконично: "Вся жизнь Остермана — упорный и постоянный труд, все его нравственное содержание — хитрость, лукавство, коварство и интрига. С Россией он не был связан ничем: ни национальностью, ни историей, тем менее родовыми традициями, которых не имел. Всегда сдержанный, методичный и последовательный, Остерман постоянно действовал наверняка. Он точно следовал пословице: "Семь раз отмерь — один раз отрежь". На Россию смотрел он как на арену для своих честолюбивых, но не корыстолюбивых целей. Остерман был "честный немец" и оставил в истории свой образ воплощением дипломатической увертливости и придворной эквилибристики, он не запятнал своего имени казнокрадством и лихоимством; в частной жизни он был в лучшем смысле слова немецкий бюргер: человек аккуратный и точный, он любил домашний очаг, был примерный муж и отличный семьянин. Обладая обширным, но абстрактным умом и имея глубокие познания в современной ему дипломатии, он считал возможным, согласно понятиям века, все благо государства устроить посредством дипломатических и придворных конъюнктур" [101].
В этой характеристике нельзя, пожалуй, согласиться только с тем, что Остерман ничем не был связан с Россией.
Один из самых преданных и органичных выучеников Петра, Остерман являл собою куда более мелкий, но, по сути, тот же тип миростроителя. Если Петр был обожателем механики не только в метафорическом, но и в самом прямом смысле, с упоением вытачивавшим и подгонявшим друг к другу металлические детали механизмов, зачарованно наблюдавшим за безукоризненным вращением шестеренок и пытавшимся перенести законы механики, их "регулярность" в государственную, экономическую, политическую жизнь, то Остерман был механиком только государственным. Своим холодным умом он воспринимал страну как некий хитро устроенный автомат, еще не отлаженный, в котором надо заменять время от времени отдельные детали и целые блоки, имея для этого многообразный набор изощренных инструментов. Имперско-бюрократический механизм, замкнутый на себя, был его моделью мира. Он был гражданином и патриотом Российской империи. И настолько, насколько Российская империя была связана с Россией, связан был с нею и Остерман.
Историки справедливо утверждают, что сильной стороной барона Андрея Ивановича, как называли его на русский лад, была внешняя политика, в которой он усердно продолжал петровскую линию. Это было его жизненным делом — укрепление и расширение империи.
Он с первых минут после смерти Петра II встал на тайную борьбу с планом князя Дмитрия Михайловича не из корыстных, карьерных соображений и из соображений высоких способствовал гибели этих планов и самого Голицына — более, чем кто бы то ни было. Осуществление замыслов сурового реформатора уничтожало саму жизненную идею Остермана.
Остерман прекрасно знал всю историю развития голицынских замыслов, помнил "дело Алексея", представлял себе степень взаимозависимости тогдашней и теперешней оппозиции петровской модели государства. Он понимал, что в случае победы Голицына будет постепенно реализовываться та внешняя политика, абрис которой выявило следствие 1717–1718 годов. Это было бы сворачивание внешнеполитической экспансии, минимализация вмешательства в дела Европы, разумное сокращение армии и флота, соответственно резкое уменьшение ассигнований на военные нужды, что обозначило бы заметное облегчение иссушающего налогового гнета, естественное развитие освобожденной от корыстной опеки военно-бюрократических институтов отечественной экономики. То есть это была бы принципиально иная и совершенно чуждая Остерману политика. Это был бы чужой и неинтересный мир, для барона Андрея Ивановича неприемлемый.
Карьере Остермана победа Голицына не угрожала. Князь Дмитрий Михайлович, как бы он ни относился к вице-канцлеру, чрезвычайно уважал его дипломатические и бюрократические таланты. В любом варианте Вышнего правительства для Остермана нашлось бы в виде исключения достойное место. Старый канцлер Головкин вот-вот должен был уйти на покой, и Остерман имел все шансы занять его пост. Во внешнеполитической сфере у него не было соперников. Ему вряд ли пришлось бы в новой ситуации столь жестоко бороться за место под имперским солнцем, как в недавние годы, когда он продал своего коллегу и соперника Шафирова Меншикову, затем Меншикова Долгоруким, а — забегая вперед — Долгоруких Анне Иоанновне и Бирону.
Барон Андрей Иванович, коварно интригуя против князя Дмитрия Михайловича, защищал петровскую идею, защищал империю, защищал свой мир и свою жизненную задачу.
Разница между ним и Голицыным заключалась в том, что князь Дмитрий Михайлович, при всей своей гордыне, высокомерии, боярском вознесении над низшими, политической самоуверенности, ощущал жизненное тепло своей страны, ее кровотоки, жил в ее истории, как в большом доме, уют и прочность которого он призван был восстановить, а барон Андрей Иванович, вполне обрусевший, связанный женитьбой со старинными русскими родами, воспринимал Россию как поле рациональной деятельности. И дело было не в его немецком происхождении — хотя чужеземная отстраненность некоторую роль, очевидно, играла, — а в петровской школе, которую он смолоду прошел. "Мы видим в нем вполне воспитанника Петра Великого", — писал об Остермане спокойный и объективный В. Строев.