Отчизны внемлем призыванье...
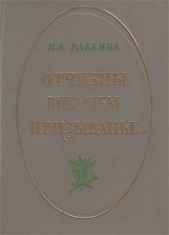
Отчизны внемлем призыванье... читать книгу онлайн
Эта книга — рассказ о героях 1825 года, доживших до 1860-х годов, до нового взрыва общественной борьбы, рассказ о людях, проявивших верность революционным идеалам, глубокий патриотизм, активность, непримиримость.
Несколько биографических очерков посвящены отдельным представителям декабристского движения, претерпевшим одиночное заключение, каторгу, многолетнюю ссылку и сохранившим красоту духа и чистоту помыслов.
Один из очерков повествует о женщинах, жизнь которых освещена сочувствием узникам Сибири и самопожертвованием ради них.
Тема последнего очерка: декабристы и русская литература.
Книга построена на разнообразных архивных материалах из личных декабристских фондов. Многие из них публикуются впервые.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В «Донесении…» подчеркивалось: «полагали, что г. Батеньков имеет на значительных в государстве людей влияние, которого он не имел никогда. Потому льстили его чрезмерному самолюбию и каждое слово его казалось им замечательным» [138].
Батеньков настаивал только на вольных разговорах, отрицал формальное принятие в общество, отговаривался незнанием его программы, предначертаний его конкретных действий и существа его политических идеалов, утверждал неожиданность обстоятельств, в которые оказался впутан. К. Ф. Рылеев, А. А. Бестужев-Марлинский, князь С. П. Трубецкой, П. Г. Каховский, В. И. Штейнгель, напротив, показывали на него. Знавшие его лично декабристы утверждали, что хотели сделать его правителем дел Временного революционного правительства, что прислушивались к его практическим советам, в произнесенных им речах пытались узреть руководство к действию и благословение тайной революционной организации высокопоставленным другом Батенькова — Михаилом Михайловичем Сперанским.
Трубецкой и Каховский вынуждены были прямо задеть Сперанского: они говорили о связи декабристов с государственным деятелем через Батенькова.
В конце 50-х годов, незадолго до смерти, конструируя свои воспоминания уже после амнистии, осторожный, умный и преследуемый укорами совести и призраком суда истории, Трубецкой хотел сместить акценты. Он выдавал за истинные следующие показания: «Требовали, чтобы я доказал, что Батеньков принадлежит к Тайному обществу, и говорили, что девятнадцать есть на то показаний. Я отозвался, что доказать о принадлежности Батенькова не могу, потому что не знаю, чтобы кто его принял и сам никогда не говорил с ним ой обществе. Что я с ним очень мало был знаком, что раз я разговаривал с ним, перед 14 числом, о странных обстоятельствах, в которых тогда было наше Отечество… и не нужно было принадлежать к Тайному обществу, чтоб разговаривать о таком предмете, который так много всех занимал» [139].
Но истина из-под пера Трубецкого появилась слишком поздно. Тогда же, после ареста, в обстановке строгой изоляции, искусно нагнетаемого следствием и самим царем ужаса заключенных, их растерянности и под влиянием демагогии Николая Павловича события недавнего прошлого приобретали в освещении некоторых искаженный, гипертрофированный, фантастический характер. Длительное истязание допросами, запугиванием, личными подачками, обещаниями, шантажом делало свое дело. Батеньков и сам был сбит с толку. Его собственные показания противоречили одно другому. Следствие констатировало: «Даже при начале допросов он долго уверял, что намерения заговорщиков были ему несовершенно известны; что он считал их невозможными в исполнении, почти не обращал на них внимания; что чувствует себя виновным в одних нескромных словах и дерзких желаниях; но множество улик, а, может быть, упреки совести, наконец, превозмогли притворство; он полным искренним признанием утвердил свидетельство других» [140].
Это «утверждение свидетельства других» фактически заключалось в ранее приведенном знаменитом заявлении от 18 марта 1826 года и в обращении от 30 марта того же года к царю: «Вина моя в существе ея проста: она состоит в жажде политической свободы и в кратковременной случайной встрече с людьми, еще более исполненными сей же жажды» [141].
Что касается Сперанского, то какое-либо прямое отношение последнего к деятельности общества, а тем более к вдохновению этой деятельности, Батеньков, согласно сохранившимся материалам, категорически отрицал.
За «жажду свободы» и определение выступления 14 декабря как первого опыта революции политической Батеньков был водворен в каменный мешок. Его осудили по III разряду на 15 лет каторги, «обвинили в законопротивных замыслах, в знании умысла на цареубийство и в приготовлении товарищей к мятежу планами и советами» [142]. Он не разделил судьбы единомышленников — его не отправили в сибирские рудники, и он не исполнял требований некогда им составленного в Сибирском уложении устава о ссыльных. Нет, он был заживо погребен и так и не ответил на вопрос, жертва ли он сговора, капризной случайности или собственной тактики. Современники его тоже не представили по этому поводу неопровержимых доказательств, убедительных фактов и бумаг. К истории так и не раскрытой до конца тайны батеньковской судьбы нам бы лишь хотелось прибавить строки письма жителя Алексеевского равелина, адресованные его родственнику Ф. Н. Муратову 21 января 1862 года: «Увлеченный большою бурею и запутанный мудреными обстоятельствами, я довольно уже, — можно сказать — беспримерно страдал… В настоящее же время убеждения и образ мыслей не составляют преступления и предмета розысков» [143].
Итак, Батеньков инкриминировал сам себе только мысли и убеждения, но мысли превратились в действие, когда он из крепости стал бросать вызовы царю.
Его взяли 28 декабря, через две недели после восстания. Он был на вечере у петербургского знакомого. Стоял в окружении мужчин и дам, блистал сарказмами, парадоксами, остротами. Сообщили: приехал фельдъегерь! И он сказал: «Господа! Прощайте! Это за мной». Батенькова увезли. Состоялись еще одни политические похороны. Петербург цепенел от массовых арестов.
20 лет 1 месяц 18 дней — каменный серый мешок: 10 аршин в длину, 6 — в ширину, тусклый свет из крошечного окошка у самого потолка, на голом щербленом столе — библия. За стеной, словно изваяния, стоят два караульных, следят за арестантом и друг за другом. На вопрос: «Который час?» — более сердобольный, наконец, моргнув покрасневшими от усталости веками, отвечает: «Не могу знать-с». Фамилия «секретного арестанта № 1» на обложке дела была нарочно перепутана. Настоящее имя его знали лишь шеф III жандармского отделения и комендант Петропавловской крепости.
Спустя 10 лет в равелине появился «секретный арестант № 2» — организатор тайного общества «Русские рыцари» П. Г. Карпов. После 16 лет тюремного «досуга» он скончался в больнице для умалишенных. «Секретные» не ведали ничего ни о мире, ни друг о друге; мир не ведал о них.
«Пробыв 20 лет в секретном заключении во всю свою молодость, не имея ни книг, ни живой беседы, чего никто в наше время не мог пережить, не лишась жизни или, по крайней мере, разума, я не имел никакой помощи в жестоких душевных страданиях, пока не отрекся от всего внешняго и не обратился внутрь самого себя» [144],— писал Батеньков историку С. В. Ешевскому.
Однако в перьях и бумаге арестанту не отказывали. «Дозволить писать, лгать и врать по воле его», — распорядился Николай. И Батеньков писал самодержцу в 1835 году, через 9 лет после суда: «Меня держат в крепости за оскорбление царского величия. У царя огромный флот, многочисленная армия, множество крепостей, как же я могу оскорбить? Ну что, если я скажу, что Николай Павлович — свинья — это сильно оскорбит царское величие?» [145] В другом письме тому же «величеству» узник провозглашал: «И на мишурных тронах царьки картонные сидят» [146]. За глухими стенами он сочинил гимн свободе:
![В добровольном изгнании [О женах и сестрах декабристов]](/uploads/posts/books/137801/137801.jpg)





















