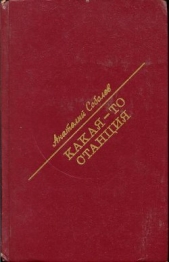СТАНЦИЯ МОРТУИС

СТАНЦИЯ МОРТУИС читать книгу онлайн
В романе "Станция Мортуис" ирония, фантастика и футурология представлены в разных пропорциях. Повествование ведется от лица высокопоставленного советского чиновника скончавшегося незадолго до начала Третьей Мировой Войны, сохранившего потустороннюю возможность наблюдать за происходящим из своего последнего пристанища, и критически осмысливающего и собственное прошлое, и прошлое своей страны. Определенное своеобразие фабуле романа придает то обстоятельство, что чиновник – главный герой произведения – человек чисто грузинского происхождения, что отнюдь не помешало его блестящей карьере. Впрочем, как становится ясно из сюжета, известные аналогии из советской истории (Сталин и т.д.), в данном случае неправомерны. История в этом романе изменяет свой естественный ход. Советский Союз продолжает существовать и воздействовать на судьбу планеты. И все потому, что парни из ОССС (Отдела Слежки за Самим Собой) в августе 91-го года спасли союзное государство от развала. Развитие человечества пошло иным, чем мы это видим сегодня, путем, а к чему все это привело, становится читателю ясно по мере прочтения книги. Жизнь и смерть человеческая, любовь и ностальгия, дружба и светлые идеалы молодости. А кроме того, еще и проблема межцивилизационного контакта: конкурирующий и чуждый человечеству разум поднимается из подземных глубин на поверхность и требует своей доли в управлении планетой…
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Слава богу, в ответ на мое резковатое обращение он вежливо назвал себя, и пока мой обессиленный полудремой разум с трудом переваривал услышанное, наш выдающийся соотечественник успел извинительно спросить: "Не разбудил ли я Вас ненароком?", - до чего же все-таки проницательны эти гении! "О, нет, что вы, нисколько", - растерянно пролепетал я в ответ. Язык и разум отказывались мне повиноваться, смущение мое было слишком глубоко, чтобы я мог поддерживать подобие светской беседы. Избитые банальности так и вертелись у меня на языке, рассыпаясь - к великому счастью - в прах прежде чем принять жалкий вид грубой лести. Полагаю, что в те первые и незабываемые минуты нашего знакомства я произвел на маэстро довольно жалкое впечатление. Наверное Писатель сразу понял с кем имеет дело - с не успевшим спросонья прийти в себя рассерженным юнцом, внезапно низвергнутым с вершин блаженного покоя на каменистое ложе идолопоклонства. Впрочем, это совсем неважно, а важно то, что Писатель пригласил меня к себе.
Да, да - именно так все и произошло: меня удостоили высокой чести, это было неожиданно и очень приятно. Пригласил он меня с простотой истинного величия - как я мог убедиться впоследствии, интеллигентнейшая манера Писателя вести беседу очаровывала слушателя, оставляя на его долю лишь покорное восхищение - и секрет очарования был вовсе не в обычнейших словесах, употреблямых миллионами людей в сходных ситуациях, а в особой мягкости тона, тщательном подборе нужной интонации, в упругой последовательности слов в используемых им предложениях, в сослагательном, если так дозволено выразиться, строе его речи. За давностью лет не рискну настаивать будто помню его слова с буквальной точностью, но им было сказано что-то вроде: "Не смогли бы вы на днях навестить меня, старика? Уж извините, что посмел обратиться к Вам со столь необычной просьбой, но вы настолько меня моложе... Без Вашего участия никак не решить одной важной проблемы, но это не вполне телефонный разговор. И если у Вас нет возражений, то я буду счастлив видеть Вас у себя в удобное для нас обоих время". Я, признаться, опешил. Вы, наверное, поняли, что сколь решительным и даже склонным к авантюризму не казался я людям, которых сам ни во что особенное не ставил, столь робким и скованным выглядел я общаясь с личностями, чье превосходство над собой в глубине души безоговорочно признавал. Сама мысль о том, что я не исполню этому человеку пустяшную просьбу, показалась мне крамольной. "Согласен быть у Вас когда Вам будет угодно", - еле выдавил я из себя. "В таком случае жду Вас у себя завтра вечером, часикам, эдак, к восьми, если Вас это устроит. Живу я на улице Софьи Перовской...". Тут уж я не вытерпел и осмелился перебить Писателя: "Да кто же в нашем городе не знает Вашего дома! Обязательно буду у Вас ровно в восемь. Счастлив буду познакомиться с Вами, батоно". Под конец нашей беседы я полностью взял себя в руки, но оставалось лишь проститься, разговор был закончен. После я так и не прилег на мой любимый диван, было не до отдыха. Я весь был уже там, в завтра. И о чем только собрался он со мной говорить?
Я нимало не преувеличивал. Добротный кирпичный дом в два этажа и с высоким крыльцом выходящим на улицу Перовской, был тогда знаком каждому образованному тбилисцу. Я говорю был знаком, а не знаком, по простейшей, увы, причине - дом давно снесли на потребу очередной реконструкции городского центра и на месте улицы Перовской проложили широченную магистраль "Форэ Мосулишвили", здесь ныне бегают автобусы, троллейбусы, легковые машины, да и люди живут другие, потому так и подмывает описать этот дом поподробнее. Но с неоправданными поползновениями все же желательно бороться, и я привлеку Ваше внимание лишь к одной, наиболее яркой детали. По воле первого и давно забытого владельца этого дома, верх крыльца слепили в форме петушиного клюва, а весь фасад здания покрыли геральдическими кирпичными петушками, да так, что с противоположного тротуара весь дом так и казался перепоясанным этими петушками. И закрепилось за ним прозвище - петушковый дом. Так его и звали горожане - петушковый - с середины девятнадцатого века и до самого сноса. В первую империалистическую петушковый дом, основательно подремонтированный и отреставрированный, был приобретен знаменитым купцом первой гильдии Амаяком Нахапетовым. Позже, в пору первой независимой грузинской республики, споро приноровившийся к меньшевистским реформам Нахапетов, оставался, кроме всего прочего, основным поставщиком фуража для гвардейской конницы социал-демократического правительства, вот и пришлось ему в 21-ом бежать из Батума на итальянском корабле в одной компании со свергнутыми грузинскими министрами. За границей следы Нахапетова растаяли так же, как и его надежды на спокойную старость в петушковом доме по улице Перовской, сам дом же передали в постоянное пользование одному из революционных комиссаров новой власти, ближайшему сподвижнику влиятельного грузинского большевика Тедо Бзванели. Позже, в эпоху довоенного сталинского ренессанса, Бзванели снискал себе определенного рода известность, попав в учебники по Истпарту в незавидном качестве неисправимого национал-уклониста, отчего в свое время несладко пришлось не только ему, но и всем его дружкам-сподвижникам. Но в полуголодном двадцать первом году было не до выявления всех политических нюансов. Тем более, что в те исторические дни будущему Писателю участь всех бывших и настоящих владельцев петушкового дома была и вовсе безразлична, ибо когда победоносная одиннадцатая армия с небольшими боями заняла Тифлис и над городской ратушей зареяло алое знамя советской власти, мальчонке пошел всего двенадцатый годик, и во всей округе разве что его матушка, да еще преданные тетки и бабки, не могли нарадоваться озорным детским стишкам маленького шалуна, не подозревая во что выльется со временем это увлечение. Но мальчик оказался не так прост. К концу двадцатых годов юноша уже автор рукописного сборника вполне серьезных стихов и активный член крикливого литературного кружка "зеленые бородачи", объединявшего в своих рядах наиболее "революционных" грузинских поэтов. Юноша избрал себе довольно претенциозный псевдоним "Вано Грозный" и, кажется, в любой момент не прочь был поизгаляться и не на словах, а на самом деле расквасить нос кое-кому из своих идейно-творческих противников. Опубликованные стихи были, однако, отмечены - этого никто не мог отрицать - печатью истинного таланта и попали в поле зрения самого Галактиона, публично заявившего, что, дескать, столь обещающему поэту не место среди отъявленных невежд и демагогов - высказывания подобного рода были тогда еще возможны, хотя уже и не всегда безопасны. К мнению Галактиона, несмотря на его молодость, прислушивались все мало-мальски близкие грузинской словесности люди, и не удивительно, что эти слова великого маэстро отечественной поэзии возымели на безусого, но "грозного" юнца неожиданное воздействие. Он немедленно порывает с леваками, но, видимо избегая обвинений со стороны бывших союзников в предательстве, во всеуслышание объявляет о том, что навсегда бросает стихотворчество и намерен отныне посвятить себя театру. Он действительно перестает сочинять стихи, пишет так и не нашедшую впоследствии своего постановщика драму, и почти полтора года работает в театре простым осветителем. В общем, драматурга из него не получилось, но любовь к перу и бумаге все же оказалась сильнее необдуманных и поспешных заверений. Понемногу он начинает овладевать искусством прозы, пишет небольшие рассказики о бурлящей кругом жизни и о великом, породившем новые надежды разломе. Он быстро взрослеет, отказывается от прежнего псевдонима и пытается напечататься под тем именем, что дано ему от рождения. Наконец, после нескольких безуспешных попыток, один из ведущих республиканских литературных журналов принимает его рассказы к печати. После косметической правки они появляются на журнальных страницах и к нему приходит первый настоящий успех. Эти рассказы сразу обратили на себя внимание как читателей, так и художественной критики. Вот где пригодилось ему поэтическое видение мира - музыкальность и гармония его литературных картинок не оставляет критиков той поры равнодушными и они одаряют молодого прозаика чем-то похожим на первые похвальные отзывы. Но Писателю тесны географические границы Закавказья, и он самолично переводит на русский язык несколько своих произведений, объединяя их в единую по стилистике книжку. Ему везет, книжку включают в план одного из московских издательств, и вскоре, совершенно для него неожиданно, из-за границы доносится авторитетный голос самого Максима Горького, не пожалевшего добрых слов для оценки первых серьезных опытов молодого советского прозаика грузинского происхождения. Окрыленный напутствием живого классика, Писатель продолжает работать, что называется, с огоньком, и постепенно завоевывает признание у массового московского читателя. Его произведения охотно печатают столичные журналы, моментально исчезают с прилавков пока еще малотиражные сборники его сочинений, его начинает хвалить серьезная критика, со временем ему начинают предоставлять достаточно высокие трибуны, он - баловень судьбы, во всяком случае в этом уверены многие из не столь удачливых его собратьев по цеху, но... Но, как ни странно, довольно быстро выясняется - на это указывали в своих воспоминаниях близкие ему в те годы люди, - что он грустнеет, теряет твердую почву под ногами, переживает что-то похожее на кризис. Внутренняя неудовлетворенность собой, все эти годы тихо тлевшая в его душе, становится все более жгучей, он весь во власти трудно контролируемых подспудных сил, в нем зреет убеждение, что он способен сочинять не только милые сердцу новеллы, пусть и наполненные глубокими и элегическими страстями, но и создавать нечто более весомое, плотное, нечто такое, что более полно отражало бы окружающий мир и тенденции его развития. И наконец: он всем своим существом стремится повидать Европу, ему необходимо разобраться в старой цивилизации для того, чтобы правдиво писать о новой. Тут уместно важное отступление. В дореволюционные времена отец Писателя, известный городской терапевт, был - подобно многим интеллигентам и разночинцам той эпохи - каким-то боком связан с социал-демократическим подпольем; так, разлитая в обществе обычная фронда, не вдававшаяся в тонкости различий между эсерами, анархистами, большевиками и меньшевиками. Достаточно ловкий конспиратор и хороший знаток своего ремесла, он, бывало, подлечивал раненых в перестрелках боевиков невзирая на их партийную принадлежность, укрывал у себя нелегалов за которыми по пятам следовала охранка, а иногда даже помогал распространять подрывную литературу. Трудно сейчас сказать, заподозрили ли власть предержащие столь уважаемого в местном высшем обществе человека в чем-либо неблаговидном, либо предпочли не замечать довольно очевидного и лежащего у них под носом, что и привело, в конечном счете, к крушению империи, но жилище его ни разу так и не подверглось обыску, и это обстоятельство сыграло немаловажную роль в тот момент, когда на самом высоком уровне принималось решение о длительной заграничной командировке Писателя. Дело было в том, что более чем за двадцать лет до этого, на мансарде отцовского особняка в течении нескольких дней укрывался от жандармского преследования некто Джугашвили, никому тогда не ведомый активист большевистского крыла российской социал-демократической рабочей партии. В конце двадцатых годов обедневший врач-фрондер скончался на той же мансарде от быстротечной чахотки, но несколько лет спустя после этого печального события, бывший беглец все же счел себя обязанным отплатить добром за добро и сын врача получил таки разрешение отбыть в длительную зарубежную командировку. Итак, с тридцать второго по тридцать пятый год Писатель путешествует по Европе, достойно представляя там и советскую литературу, и родную республику, и первую в мире социалистическую державу. И всюду, от скадинавских фьордов и до древних руин Пелопонесса, он - желанный гость. Было зафиксировано, что только три европейских правительства - румынское, болгарское и венгерское - отказались выдать Писателю въездную визу, расписавшись тем самым в собственной беспомощности. О, он не только путешествует, осматривает, сравнивает, выступает, оппонирует. Нет, он еще много и хорошо пишет, его знаменитые путевые очерки регулярно печатаются в центральных советских газетах, а кое-что более серьезное откладывается им на потом (этот период в жизни и творчестве Писателя литературная критика ныне именует европейским). Именно тогда в его творчестве в полной мере обнаруживают себя публицистические мотивы, дотоле стыдливо и довольно тщательно скрываемые им под полупрозрачной вуалью светской отстраненности. Его проза становится содержательнее, реалистичнее, фундаментальнее. Его имя приобретает мировую известность.