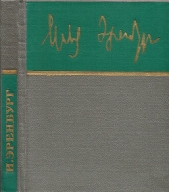Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Эренбург — человек совершенно иного типа. В нем отсутствовало все одесское. В нем присутствовало только парижское и московское, но не смесь французского с нижегородским. Он являл собой тип москвича, русского интеллигента, долго жившего в Париже. По-французски jovial — любящий веселье, веселый, жизнерадостный. Jovialite — веселость нрава. Приведенные определения, если верить словарю и различным классическим текстам, не употребляются в переносном значении и не обладают вторым планом. На русской почве галлицизм превратился в словцо с привкусом, оттенком, ужимкой, что ли. Но ни оттенок, ни ужимка не имеют отношения к личности Эренбурга, который не принадлежал ни к весельчакам, ни к породе жизнерадостных людей, скорее наоборот. Он являл собой скептика, разочарованного романтика, всегда поэта, застывшего в ужасе перед событиями, которые ему приходилось наблюдать и в которых приходилось участвовать. Мне кажется, я ощущаю, что намеревалась выразить Надежда Яковлевна, но не думаю, что она права.
И чтобы подвести черту под сюжетом с прилагательным «жовиальный», вернусь к очкам «жовиального одессита» Бабеля. Очки — не обыкновенная деталь, запечатленная Эренбургом. И суть здесь не просто в том, что они, очки, не могли скрыть то лукавого, то печального взгляда. Очки в стихотворении Эренбурга — нечто большее, некий символ художественного гения. За десять лет до смерти он вспоминал о погибшем друге в пронзительных и, к сожалению, полузабытых строках, совершенно не тая обиды за данные на следствии показания, о которых если не знал дословно и точно, то точно и дословно догадывался:
Точнее о буденновской конармии и «Конармии» Бабеля не скажешь. Умение опоэтизировать прозу, превратить прозу в поэзию, не отрывая ее, прозу, от жизни, характерно для Эренбурга. Поэзия не вторгалась в прозу, газетное сообщение или дневниковую запись. Поэзия вбирала их, пропитывала все поры и возрождала на другой — художественной — основе. Проза жизни становилась строительным материалом, интонацией, атмосферой: плеск сабель, строгий чин агонии и страсти. И облака вспоротых перин. Воздушность этих облаков, их медленное круговращение и оседание. Их пыльный запах.
Поэзия невозможна без философии. Поэзия в каком-то смысле и есть философия, интонационное, гармоничное осмысление человеческого настроения, человеческих впечатлений.
Эренбурговский портрет Бабеля, «жовиального одессита», хлебнувшего в жизни горя, нельзя не принять за образец классической поэзии, нельзя не плениться не только внешней точностью, но и острой трагичностью, с какой изображается содержательная сторона нетривиальной и отнюдь не жовиальной натуры.
Нередко интерес к Эренбургу и его авторитет пытаются использовать не с политической целью, прибегая, между тем, к лукавству и даже прямой неправде. Переводчик и интерпретатор Луи Фердинанда Селина русский критик и литературовед Вячеслав Кондратович, который одновременно является одним из руководителей Российского отделения общества друзей Селина, вот как говорит в одном из интервью о встрече с замечательным французским писателем: «О Селине я впервые прочитал у Эренбурга в его книге „Люди, годы, жизнь“, сейчас в России полузабытой, но в свое время пользовавшейся огромной популярностью. Тогда мне было лет 13–14, то есть уже более четверти века назад. Все мы жили тогда в условиях колоссального информационного голода. А у Эренбурга о Селине было написано что-то вроде: что он восхищается (!) Селином как писателем, но никогда не разделял его мировоззрения…»
Еще бы — разделять! Мировоззрение коллаборациониста и юдофоба! Мировоззрение человека, который пытался сталинский «коммунистический» режим выдать за систему, особенности которой отвечают еврейскому правосознанию. Требовать от Эренбурга, чтобы он присоединялся к мнениям Селина, — это слишком.
«Надо сказать, что Эренбург называл очень многих деятелей французской культуры, в том числе и тех, кто к тому моменту мне был не известен, — продолжает Вячеслав Кондратович, — но имя Селина стояло как-то особняком. Ничего не разъяснялось: какое мировоззрение, почему не разделял? Вот эта загадочность как-то особо интриговала».
Оговорюсь сразу: я лично весьма доволен, что Вячеслав Кондратович и его напарница Маруся Климова вновь открыли русскому читателю Селина и дали возможность оценить его стиль, язык, художественные приемы, мировоззрение и в целом жизнь. Но Вячеслав Кондратович прибегает к малодостойному камуфляжному приему. Уж если знаток Франции и французского языка Эренбург восхищен Селином, то остальное можно оставить без внимания. Подобная расчетливая наивность непростительна. Более того, она искажает сам принцип отношения к писателю, особенно в сложных и до сих пор подцензурных условиях существования нашей литературы, а переводы Вячеслава Кондратовича и Маруси Климовой все-таки стали фактом нашей культуры, и это очень отрадно.
Сколько грязи вылила советская критика на участника французского Сопротивления Сэмюэла Беккета и его пьесу «В ожидании Годо»! Но когда она сделалась доступна русскому читателю, выяснилось, что факты биографии драматурга и лауреата Нобелевской премии вполне — извините за не очень подходящее словцо — коррелируются с пьесой, которую на страницах отечественных газет и журналов подвергали дикарским оскорблениям.
Перевод книг Селина, несмотря ни на что, есть сугубо положительный акт. Однако Эренбурга зачем сюда приплетать?! Эренбург упоминает о Селине всего два раза и ничего не пишет о восхищении художественными достоинствами его прозы. О мировоззрении Селина он отзывается пренебрежительно и совершенно не упоминает о том, что не разделяет мировоззрения нераскаявшегося коллаборациониста. В 32-й главе четвертой книги мемуаров фамилия Селина вовсе не стоит особняком. Наоборот, она тесно соприкасается с фамилией Гитлера, который ему так нравился до европейской катастрофы, когда Селин почувствовал на собственной шкуре, куда завели Францию «боши».
«Писатель Селин предлагал, — подчеркивает Эренбург, — объединиться с Гитлером в священной войне „против евреев и калмыков“ („калмыками“ он, видимо, называл русских)». И ничего больше! О «калмыках» следует поговорить особо. Не исключено, что Селин намекал на происхождение Ленина. Эренбург взял слова Селина в кавычки. Между тем Селин имел в виду унизить именно русских. И как расист — так он себя рекомендует; возможно, немного иронически, — и как человек, побывавший в СССР, он прекрасно знал разницу между русскими и калмыками. Надо попутно для ясности заметить, что Селин обладал редким для писателя качеством — самоиронией. Но это так — к слову. Я прерву текст о Селине, чтобы продлить удовольствие от косвенного общения с этим превосходным, наблюдательным, умным, хотя и очень злым писателем и, бесспорно, несправедливым человеком, еще раз подтвердившим ошибочность гуманной пушкинской формулы, что гений и злодейство несовместимы.