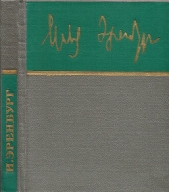Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга

Еврейский камень, или собачья жизнь Эренбурга читать книгу онлайн
Собственная судьба автора и судьбы многих других людей в романе «Еврейский камень, или Собачья жизнь Эренбурга» развернуты на исторической фоне. Эта редко встречающаяся особенность делает роман личностным и по-настоящему исповедальным.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Откровеннейший критик нашей прошлой собачьей жизни, имеющий на то бесспорное право, Надежда Яковлевна Мандельштам, вдобавок к уже процитированным строкам, заметила: «Среди советских писателей он был и оставался белой вороной. С ним единственным я поддерживала отношения все годы. Беспомощный, как все, он все же пытался что-то делать для людей». Характеристике Эренбурга нельзя отказать в точности и проницательности. Он действительно выглядел белой вороной и вел себя как белая ворона, никого из собратьев по перу не критикуя и не причиняя никому зла. Иногда он отбивался от нападок, но чаще пропускал клевету мимо ушей.
Надежда Яковлевна в этом пассаже дала высочайшую оценку мемуарам Эренбурга, во многом, как мне кажется, справедливую, несмотря на десятки пустых страниц: «„Люди, годы, жизнь“, в сущности, единственная его книга, которая сыграла положительную роль в нашей стране».
С последним утверждением вряд ли стоит соглашаться безоговорочно. Но то, что Эренбург «был и оставался белой вороной» и «пытался что-то делать для людей», безусловно. Надежда Яковлевна не в пример иным максималистам, живущим в совершенно другом, не террористически-сталинском периоде и пользующимся мощной поддержкой Запада, поступки Эренбурга хорошо понимала и правильно оценивала, как, впрочем, и Варлам Шаламов, который провел долгие годы в северных лагерях. Зорко разглядела она лица тех, кто пришел на похороны Эренбурга. «Это была антифашистская толпа», — подчеркнула Надежда Яковлевна. Я присутствовал на гражданской панихиде и позднее, прочитав «Вторую книгу», подивился яркости определения. Действительно, толпа была на редкость и однородно антифашистской. Ни одного писателя, даже Бориса Пастернака, не провожала в последний путь такая толпа. В людях, пришедших к гробу нобелиата, попадались разного рода протестанты, любители поэзии, любопытные. Их и с большой натяжкой нельзя было назвать антифашистами. Эренбург и при жизни привлекал людей особого склада. Надежда Яковлевна вовсе не имела в виду, что у гроба собралось много евреев, генетических противников фашизма и расизма. Нет, вовсе нет. Пришли интеллигенты разных профессий, ветераны минувшей войны, художественная молодежь, просто случайные люди, поддавшиеся душевному порыву, никому не ведомые любители литературы. Однако однотипность человеческого облика являлась определяющей чертой общности людей, собравшихся на несколько исторических мгновений. Есть во «Второй книге» далекоидущий и не вызывающий возражения вывод: «Эренбург сделал свое дело, а дело это трудное. Может быть, именно он разбудил тех, кто стал читателями Самиздата». На каком далеком расстоянии находятся слова Надежды Яковлевны от тех царапающих и неприязненных оценок, которые дает Эренбургу Александр Солженицын, вторгаясь в очерке о Столяровой в частную жизнь и семейный быт Эренбургов, и что неприятнее всего — после смерти хозяина квартиры на улице Горького!
Что касается культурной значимости мемуаров Эренбурга, то здесь взгляд Надежды Яковлевны стоит оспорить. Эренбург слишком пристрастен в своих вкусах и, открывая слепому и глухому советскому миру Пикассо, он в то же время намеренно — подчеркиваю: намеренно! — умалчивал о многих не менее крупных явлениях европейской и американской культуры, объективно способствуя ее искажению в умах и сердцах миллионов людей, выпячивая главным образом лишь левые — так называемые прогрессивные — течения и их представителей. Трудно упрекнуть человека в подобном подходе. Дело, конечно, вкуса. Но я подозреваю, что Эренбург прятался за это ощущение. Путь к Сальвадору Дали, Луи Фердинанду Селину и Генри Миллеру был заморожен, а творчество их примитизировалось мимолетной, несправедливой и постоянно политизированной долбежкой. О Генри Миллере Эренбург, кажется, вообще не упоминал. Его заменил довольно посредственный драматург Артур Миллер, идеологически приемлемый для партийных бюрократов, невзирая на европейское происхождение, выраженную симпатию к евреям и недолгое супружество с Мэрилин Монро, которую агитпропщики пытались выдать за эталон разврата. А существует ли мировая культура без Дали, Генри Миллера и Селина?
Эпоха военного лихолетья миновала, Сталин исчез, Германия со скрипом становилась демократической, и при всей художественной отсталости Советского Союза пора было расширять взгляд и сражаться не только за появление фамилии Бухарина в журнальном тексте, но и за более толерантное восприятие чужой культуры. Коллаборационизм Селина, безразличие к европейским событиям Миллера и сюрреалистическая усложненность Дали не должны были помешать хоть краткому указанию на их определяющее влияние и ведущую роль в культурном развитии Запада.
Еще одну характеристику Эренбурга мы находим у Надежды Яковлевны в главе «Немножко текстологии», и она, к сожалению, не столь однозначна: на ней лежит отблеск трагической судьбы Мандельштама. И коль речь зашла о текстологии, то надо заметить, что и здесь Надежда Яковлевна не всегда подбирает удачные выражения.
В 1940 году Эренбург в Париже не «отсиживался» в посольстве. Он укрывался там и, несмотря на действие сталинского пакта с Гитлером, рисковал жизнью. Эренбурга прекрасно знала германская разведка, в том числе и по испанским событиям, однако недооценила потенциал или — что правильнее — полагала: НКВД разделается с ним, как с прочими, после возвращения в Москву. Судьба Кольцова, Клебера, Львовича и десятков высокопоставленных русских испанцев не составляла тайны для гестапо. Лишних осложнений с советским посольством немцы старались избегать, Свидетельство генерала Павла Судоплатова показывает, какую участь Сталин предназначал Эренбургу. Гестапо — расчетливая организация, и если что-то можно было переложить на плечи НКВД, то отчего же не дать свободу действий Берии? Сплетни и слухи, которые распускало гестапо после уничтожения маршала Тухачевского, тому подтверждением. Надежда Яковлевна ошибается: Эренбурга гестапо выпустило в Москву на расправу. Пакт здесь не играл ведущей роли. Он действовал формально: виза, вокзал, билет, компостер, вагон, границы и… вечность. В лучшем случае — безымянная могила в Донском монастыре или яма за городской чертой.
Кольцов уже лежал в такой безымянной могиле с пулей под черепом, вылетевшей из «вальтера». Расстрельщики из НКВД пользовались обычно пистолетами этой немецкой системы. «Вальтеры» применялись в Катыни. Это одно и то же время. Вдобавок, пули немецкие. Если бы гестапо могло предположить, как проявит себя Эренбург во время надвигающейся войны с Россией, если сохранит жизнь, то ни за что не выпустило бы из Парижа. И хваленое гестапо иногда допускало просчеты!
В небезукоризненном, что касается Эренбурга, тексте есть, между тем, верные мизансцены, стоп-кадры и стоп-выражения. Вот встреча на Каменном мосту: «Он прогуливал собачку. Мы разговорились. Я была поражена переменой, происшедшей с Эренбургом, — ни тени иронии, исчезла вся жовиальность».
Я споткнулся на последнем слове. То ли подразумевала Надежда Яковлевна? Разве Эренбург относился к весельчакам и жизнерадостным парижанам?! С улыбкой как-то не вяжется ни образ, ни облик Эренбурга. Быть может, речь идет о горьком смехе или смехе сквозь слезы? Что же все-таки хотела сказать Надежда Яковлевна? Сомнения усилились, когда я вспомнил замечательный фрагмент из мемуаров Эренбурга, целиком посвященный Бабелю.
«Он был невысокого роста, коренастый. В одном из рассказов „Конармии“, говоря о галицийских евреях, он противопоставляет им одесситов, „жовиальных, пузатых, пузырящихся, как дешевое вино“ — грузчиков, биндюжников, балагул, налетчиков вроде знаменитого Мишки Япончика — прототипа Бени Крика. (Эпитет „жовиальный“, — продолжает далее Эренбург, — галлицизм, по-русски говорят: веселый, жизнерадостный.) Исаак Эммануилович, несмотря на очки, напоминал скорее жовиального одессита, хлебнувшего в жизни горя, чем сельского учителя. Очки не могли скрыть его необычайно выразительных глаз — то лукавых, то печальных».