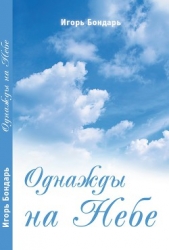В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Между тем учебный год, с которым связано появление в моей жизни новых друзей, постепенно шел к концу. Он был отмечен отнюдь не только радостными событиями и не только такими мелкими пока неприятностями, как мои схватки с Головачом или беседы с Миндлиным (хотя и за ними стояло многое). Были события гораздо более крупные, которые касались уже многих и не должны были ни у кого вызывать радость. Но тогда эти события меня, как ни странно, беспокоили не очень, а если вызывали беспокойство, то какое-то причудливое и странное. А события эти были мирового значения.
За несколько дней до начала этого учебного года был подписан договор Молотова-Риббентропа. Затем вторжением Гитлера в Польшу началась вторая мировая война. На семнадцатый день после ее начала мы вторглись в Польшу с востока для «освобождения» Западной Украины и Западной Белоруссии (чтобы еще через много лет освобожденные вспоминали, как хорошо им жилось «за Польшей»). Через некоторое время началась война с Финляндией. После ее окончания мы захватили Прибалтику, а также возвратили себе Бессарабию, принадлежности коей к Румынии никогда не признавали, прихватив в уплату за временное пользование ею и Северную Буковину.
Должен, к стыду своему, сознаться, что в отличие от мирового общественного мнения я к этим событиям отнесся одобрительно. В свете моего коммунистического мировоззрения, в договоре с Гитлером не было ничего предосудительного — обыкновенное лавирование пролетарского государства в капиталистическом мире. С моей точки зрения, официозный антифашизм только отвлекал от классового сознания и чистого коммунизма — не все ли нам равно, каковы оттенки того или иного капитализма? А вторжение в Польшу только подтверждало, что Сталин не на словах, а на деле делал мировую революцию. Так же расценил я все остальные захваты и прихваты. И даже еели бы я тогда узнал, что «финский обстрел наших позиций», послуживший поводом для начала открыто подготавливавшейся войны, происходил через головы финнов из нашего Ораниенбаума, я бы все равно не очень возмутился. Я и так не верил в официальное объяснение, но знал, что революция может потребовать и не такого. Мне самому от этого тошно, я таким не был, но так думал. Это и был «честный коммунизм», тот самый, который и обеспечил победу нечестному, то есть догматическому сектантству, с его моралью и логикой — другого коммунизма не бывает. Не нравится догматизм — откажитесь от коммунизма. Приспособить его к здравому смыслу невозможно. Трансформировать в прострацию — нетрудно. Сектантская логика может принять и самоубийство.
Во всяком случае, атмосфера от такого «возвращения коммунизма» не очищалась, становилось все душней. В этой атмосфере преследовал меня Головач и интересовался годом издания книги Асеева Миндлии. Правда, к этому я еще мог относиться как к частностям («власть на местах»). Но тут вдруг газеты стали всем объяснять, что в течение всей своей истории русский народ противостоял вовсе не немцам, как ошибочно считали раньше, а французам и англичанам, благо в истории хватало примеров, подтверждающих это. Согласно этой установке пересматривались программы по истории, то есть стремились вдолбить это нужное только локально представление — навсегда. Этот с виду пустячный факт показывал, что людей превращали — тотально, вместе с их психологией — в чурки одноразового использования, что я ощущал и с чем не мог примириться. Идеология — даже та чушь, которую я исповедовал,— претендует все же на более фундаментальное отношение к миру, не так уж зависящее от обстоятельств. Такое «воспитание» больше всего изобличает в Сталине временщика, несмотря на всю его любовь к монументальности.
Страшнее всего для меня эта прострация выразилась в тотальной антипольской пропаганде после ввода войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Раздувалась ненависть уже не против польских панов, не против капиталистов и кулаков (все это идеология разрешала), а против поляков вообще. Странно, и тягостно выглядело это движение к мировой революции. Из всего обильного печатного материала этому централизованному умопомрачению противостояло лишь одно стихотворение Асеева, которое я прочел только в многотиражке киевского Дворца пионеров, а потом в сборнике — в периодике я его не видел. Лишь там были строки (привожу без лесенки):
Не верь, трудовой польский народ,
Кто сказкой начнет забавить,
Что только затем мы шагнули вперед,
Чтоб горя тебе прибавить.
Мы переходим черту границ
Не с тем, чтобы нас боялись,
Не с тем, чтоб пред нами падали ниц,—
А чтоб во весь рост выпрямлялись!
О соответствии этих строк реальности говорить не будем: к ней не имела отношения вся наша идеология — и моя и Асеева. Трудовому польскому народу безусловно от «нас» досталось. Но досталось от «нас» и украинскому, и белорусскому, и всем прочим народам, в том числе и нам самим, кто б мы ни были. И с чем мы могли переходить границу, если интересовались, какого года издания книжка? Но тем не менее я до сих пор благодарен Асееву за эти не очень хорошие стихи: за то, что они настаивали на том, во что верили, за то, что не поддались общему угару. Хотя угорели все остальные по негласной команде, о которой Асеев, как и я, наивно не догадывайся. И, как я, удивлялся. Тоже до времени.
Было еще обстоятельство, которое должно было бы заставить меня задуматься,— поток вещей оттуда. Мальчишки выменивали у польских пленных на хлеб авторучки, которые у нас считались предметом роскоши. Мы почти целый год потом писали в реквизированных польских тетрадях. Все это показывало, что освобожденные жили гораздо зажиточней, чем освободители. Но это на меня не действовало. Зато за нами было будущее! И потом — зато мы были сильны! И двигались к мировой революции!
Постепенно дело шло к экзаменам — для Яши и Марка выпускным, для меня к подобию выпускных, за семилетку. Хотя я продолжал с ними видеться, в основном наша дружба развернулась в следующем году, в последний год перед войной, когда они были уже студентами, а я — восьмиклассником.
ПОСЛЕДНИЙ ПРЕДВОЕННЫЙ
Последний предвоенный учебный год начался для меня отнюдь не мирно, хотя первые его часы как будто не предвещали ничего дурного. Дело в том, что первый день вообще был тогда для нас не учебным, а праздничным. Он совпадал с МЮДом — Международным юношеским днем,— который до войны широко отмечался. В этот день, как правило, светлый, солнечный, теплый и нежаркий, «как бы хрустальный», занятий в старших классах не бывало, и все с удовольствием отправлялись на демонстрацию. Нам — мне и моим сверстникам — впервые подошел возраст участвовать в такой демонстрации, от этого наше настроение было особенно приподнятым. За что и против чего были эти демонстрации, сказать трудно. Скорее всего это была инерция двадцатых годов, когда все это происходило под знаком КИМа — Коммунистического интернационала молодежи — и было как бы символической поддержкой коммунистической молодежи мира в ее борьбе с капитализмом. Теперь направленность слиняла, и если демонстранты несли лозунги, то это были просто дежурные лозунги, обращенные к молодежи, они существовали, так сказать, для порядка, для обязательного напоминания о нашем причастии дьяволу, но ими никто из нас не интересовался. Волновала встреча после каникул, юность, радовал светлый хороший день. В рядах раздавались шутки, смех, подначки, настроение было самое беспечное. От этого, как говорится в древних повестях, «настало мне и кончение». За всем этим я забыл о том, о чем кричали все заборы, газеты и репродукторы, о чем всегда говорили в школе, а именно — что «враг не дремлет». Впрочем, если б я об этом и помнил, ничего бы не изменилось. Ибо мне предстояло впервые по-настоящему столкнуться с тогдашней действительностью. Читатель может не ужасаться — кончилась тогда для меня эта встреча не так уж страшно, да и полный смысл происшедшего я уразумел гораздо позже, мое тогдашнее мировоззрение не давало мне возможности понимать увиденное адекватно. Но несправедливость я чувствовал все-таки по-юношески глубоко, и стоило мне это происшествие довольно дорого.