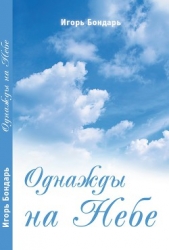В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В магазине, который уже здесь упоминался, я набрел не только на Асеева (небольшой сборник избранных стихотворений «Наша сила»), но и на неизвестною мне тогда Александра Прокофьева. В шестидесятых годах среди ленинградской (нелитературной, правда) интеллигенции о Прокофьеве как о поэте судили по его поведению в должности главы ленинградской писательской организации, поведению, что говорить, очень непривлекательному, и поэтому считали чуть ли не бездарью, а он если уж чем точно не был, так это бездарью. Даже тогда, в момент наибольшего своего падения, когда он («секретарским» образом) печатал целые подборки невыразительных стихов, в них — пусть одно на десять — попадались стихи подлинные, первозданные. А когда я впервые прочел его предвоенный сборник, я просто был ошеломлен и поражен яркостью ею стихов. Признаюсь сразу — Прокофьев никогда не относился к числу моих любимых поэтов. Его внутренний мир не требовал самоуглубленного лиризма, необходимого мне для полной самоидентификации с автором. Но он мне всегда нравился, всегда поражал и радовал каким-то лихим упоением самим процессом жизни, яркостью восприятия. Особенна при первом чтении. К такому я не привык и такого не ждал. Это противоречило всем моим представлениям о поэзии. Но это было поэзией, в этом была сила поэзии. Я ее чувствовал, хоть не знал, почему это так.
Читал я и многих других поэтов. Старых тоже. Лермонтова, естественно (болезнь возраста, хоть у некоторых этот возраст навсегда), предпочитал Пушкину. Пушкина, следуя Маяковскому, «сбрасывал с парохода современности». Это мне давалось тем легче, что я искренне верил, что в отличие от Лермонтова, у которого глубокие чувства, у Пушкина одна только гладкопись. Но потом это прошло — Пушкин все равно как-то исподволь проникал в меня и проник.
Читал я и Ярослава Смелякова. Его «Любка» потрясала меня, как и многих, своим хотя и комсомольским по сюжету, но все же неприкрытым лиризмом. Из-за чего она и считалась упадочнической, особенно в годы первой пятилетки, энтузиастом которой Смеляков оставался до последних дней. Тем не менее на ее исходе он был арестован — еще не НКВД, а славными органами ОГПУ (другими словами, до вакханалии тридцать седьмого — может, поэтому он и не был объявлен «врагом народа») — за какую-то реальную или приписанную выходку (точно, в чем было дело, не знаю) и в описываемое время заканчивал свой первый лагерный срок. Пока он сидел, сменились эпохи, посадили тех, кто его сажал (конечно, не за то, что они это сделали), а он все сидел. Но по окончании срока он вернулся в Москву. Это было уже перед войной, перед новым кругом его мытарств, через год или два после моего знакомства с его стихами.
После того как в мою жизнь вошел литкружок, время для меня сорвалось с места и полетело. Скоро я уже не только читал стихи, но и писать их стал иначе, чем писал до этого, начал серьезней относиться к своему творчеству — стихи стали четче и определенней. И понемногу я начинал чувствовать силу. Да и другие стали говорить обо мне серьезней.
Тогда я написал первое запомнившееся мне стихотворение, представляющее собой хоть и юношескую, наивную, но все же собственную реакцию на жизнь:
Так спокон веку повелось —
Что умным в жизни счастья мало.
А дураку — где взгляд ни брось,
Судьба повсюду помогала.
Я разгадал секрет. И вот
Я говорю: к нам счастье строго
Не потому, что не везет,
А потому, что надо много.
Стихотворение это, написанное в шестом классе, конечно, юношеское, неумелое. В нем «где» вместо «куда», «помогала» вместо «помогает», словесные неточности — вроде выражения «к нам счастье строго». Может удивить и нескромность отнесения «нас» (то есть и самого себя) к разряду заведомо умных. В принципе, как «ученик Маяковского», я тогда на такое был способен, но не поручусь, что и эта нескромность не результат неумелости. По-видимому, имеются в виду не «умные», а «мыслящие», «взыскующие града». Впрочем, мне тогда понятия «умный» и «мыслящий» казались тождеством. Помню и такое четверостишие, где та же путаница:
О том, что нас мало, что будет беда,
Жужжит мне дурак везде уже.
Но сколько нас бродит по всем городам
И влюбляется в умных девушек.
В этом четверостишии больше самосознания, ощущения поколения и даже четкости, но есть громоздкость, и всего стихотворения я не помню, так что приведенное раньше восьмистишие я так или иначе считаю первым своим стихотворением.
Но все больше погружаясь в занятия поэзией, я, так же как и все мои сверстники, продолжал учиться в школе. Большого противоречия между школой и своим увлечением я долго не замечал. У нас была хорошая учительница по языку и литературе Мария Ивановна Семенович. Потом, в конце моего пребывания в этой школе, у меня с ней вышел конфликт, но главного он не меняет. Она вполне соответствовала детскому представлению о том, что учитель литературы должен быть не только грамотным, но и культурным человеком, любящим и понимающим литературу. Она и сама писала стихи. Однажды, уступая нашей с Люсиком просьбе, даже прочла нам их в пустом классе, и они нам понравились. Вроде, если мне не изменяет память, в них тоже была романтическая печаль по «весне военного коммунизма». Во всяком случае, они были вполне современны по интонации и поэтике. Так что особого противоречия между школьной и нешкольной литературой я чувствовать не мог.
Начались влюбленности. Мы с Гришей и еще несколько ребят были влюблены в его одноклассницу Тамару. А она «любила» не нас. Все это не мешало нам всем дружить самой нежной дружбой. Но все перипетии наших чувств отражались в стихах. Помню строки из забытого стихотворения:
Завтра — контрольная. Завтра — гроза.
Выучил я до нормы...
Но если из книги гладят глаза
Вместо химических формул!
Напоминаю: все это происходило во второй половине тридцатых годов. Несмотря на все мои подозрения насчет преданной Сталиным революции и уничтожения настоящих революционеров, а также насчет безыдейности комсомольских работников, я до конца не знал и не представлял, какие это годы. У Д. Самойлова сказано о его ровесниках до войны: «В них были вера и доверье». У меня «вера» была не всегда (часто сомневался), но доверие — было. И не только к людям — оно у меня осталось и редко меня обманывало. Но и иное доверие, допустим доверие к званию. Не только к званию учителя (раз учит, значит, знает!), но, несмотря на филиппики против безыдейных карьеристов, даже к званию партработника. Я полагал (иногда), что некоторые из них чего-то не понимают, а иногда, поскольку держались они очень уверенно,— что они, вероятно, имеют в виду нечто, чего не понимаю я. Что они ведут себя уверенно, ничего, кроме последней установки, в виду не имея, а порой и не зная, что надо (или даже сознавая, что не надо) что-то иметь в виду, я мог себе тогда представить, только отвлеченно, даже не теоретически, а риторически. При встрече с живым человеком это знание улетучивалось. И это способствовало моим переходам на официозные рельсы — тогда и позже.
Как я теперь понимаю, эти мои переходы на официозные рельсы были для меня, как это ни странно на первый взгляд, наиболее опасны. Когда я бывал «против», я все-таки бывал в какой-то степени осторожен, а когда «за», всякую осторожность терял. А этого делать нельзя было ни в коем случае. Для Сталина и сталинщины своих не было, сторонники не требовались. Требовались холопы, не задающие вопросов и знаюшие свое место. Неудивительно, что и арестован в 1947 году я был, находясь на восторженно-официальных позициях. Нужны они были кому-то, мои позиции!
В детстве они были тоже никому не нужны, но я этого еще не знал (впрочем, как в юности и молодости). И поэтому полагал, что антимещанский пафос тогдашних моих стихов соответствует не только моим чувствам и мыслям, но и «линии» и должен быть близок и желателен тем, кто ее проводит. Кроме того, тут я следовал Маяковскому, превозносимому за это же до небес. Да и партию ведь, если она партия, не могло же не пугать, что ее «великое дело» может потонуть в море безыдейности. Представить же, что к тому времени это образование уже не было партией и его ничто не могло волновать, я тогда до конца еще не мог.