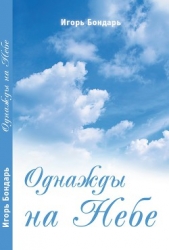В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А началось все с глупой шутки, которых было немало в тот день ввиду общей легкомысленной настроенности. Кто-то из задней шеренги, балуясь, неожиданно толкнул меня в спину, и я упал на идущего впереди, чем вызвал очередной взрыв смеха. Возможно, я тут же дал бы сдачи, но до этого не дошло. Нарушение увидел следивший за порядком завуч. В нашей школе он был недавно, я не помню, что он преподавал, забыл его имя. Производил он впечатление сухаря, был высок, худощав, смотрел на все строго и подозрительно, прозвище имел Глиста. Но за него вышла замуж наша учительница литературы Марья Ивановна, из-за чего совершила потом ряд некорректных поступков, что тогда меня возмущало — именно потому, что я хорошо к ней относился. Но возмущение давно прошло — от любящих женщин я уже давно не требую объективности. Но речь об ее муже. У нас он не преподавал, но ко мне всегда относился настороженно, как к возмутителю спокойствия. Я теперь нисколько не горжусь тем, что в какой-то степени им и был,— не так много было тогда у людей спокойствия, чтоб его еще возмущать, ставить их в затруднительное положение. Но мне теперь шестьдесят пять лет, а тогда было пятнадцать. И именно с пятнадцатилетними он брался иметь дело. Но я никому специально досадить не стремился, а с ним вообще дела не имел.
Не успел я прййти в себя после толчка, как раздался его голос:
— Это кто тут хулиганит? Ах Мандель!.. А ну-ка выходи из рядов.
Я вышел.
— А теперь иди домой! Я запрещаю тебе дальше участвовать в демонстрации.
Вот тебе на! Меня толкнули, и я же виноват! Ведь все это видели. Но никаких и ничьих объяснений завуч не слушал.
— Сказано — иди домой, значит, иди.
Я опешил. Даже если б я был виноват, бросалась в глаза несоразмерность вины и наказания. Это выглядело капризом. За что мне портили праздник? Такой вопиющей несправедливости вынести я не мог. Я отказался и вернулся на свое место.
— Ну смотри! — пригрозил мне завуч, и угроза эта, как выяснилось, не была пустой.
День прошел так же весело, как начался. На демонстрации мы много шутили, кричали: «Да здравствует товарищ Кацнельсон!» — это была фамилия нашего вожатого-десятиклассника Левы. Вожатого мы любили, и почему было не побаловаться? Впрочем, при Брежневе за этот «лозунг» сионизм бы пришили; тогда этого не было, но и тогда кое-где, как я потом случайно узнал, отнеслись к нему серьезно. Стали копать. Вызывали украинского поэта Абрама Кацнельсона, с которым мы не были знакомы (приняли во внимание наше увлечение литературой). Что их взволновало? Неужто заподозрили попытку выставить собственные лозунги — впервые после известной троцкистской демонстрации 7 ноября 1927 года? Вряд ли. Но — бдили. Серьезными делами занимались люди в нашем Царстве Принудительной Инфантильности. Впрочем, ругать их особенно не надо — они ведь могли бы и группу из нас сварганить во главе с тем или другим Кацнельсоном, а то и с обоими. Однако не сделали. Дело обошлось без наших славных органов, об интересе которых я узнал только случайно. Но и без них оно было достаточно отвратно и показательно...
День закончился вполне безоблачно. А наутро я был снят с уроков и исключен из школы за хулиганство.
Я был потрясен. Меня обвиняли уже во всяких грехах, но чтоб в хулиганстве! Потом мне объясняли, что дисциплина есть дисциплина и я все равно должен был подчиниться завучу. Но, жалея сегодня о многом, что делал, я никогда не жалел о том, что не знал этого толкования дисциплины и не подчинился. Подводить логическую базу под произвол и недостойно и наивно. Сегодня, когда я впервые за много лет опять думаю об этом эпизоде, я с высоты своего опыта понимаю, что никакое подчинение мне бы тогда не помогло. Уж слишком не слушал ничьих объяснений завуч, слишком кричаще был он несправедлив. Если бы я и ушел домой, зафиксированное таким образом «хулиганство» все равно было бы таким же образом наказано. Ибо дело было не в «хулиганстве», не в неподчинении, а во мне самом — в том, что Головач твердо решил от меня избавиться и только искал удобного случая. А шестерка завуч услужливо помог его создать, тем более что это соответствовало его собственным чувствам. Должен сказать, что Головача я, в общем, простил. И не только потому, что потом он был расстрелян немцами в оккупированном Киеве, и по другим причинам. Он был человек, может, и грубый, но и сильно перепуганный своим снижением. Он хотел от меня избавиться, но, повторю, я не чувствовал его ненависти к себе или желания погубить. Цель его была проста. В самый разгар конфликта он выразил ее так: «Ты учиться будешь, но не в этой школе». Кстати говоря, когда я еще учился в его школе, в перерывах между схватками мы иногда с ним беседовали вполне конфиденциально о сложных вопросах современности — это вроде была воспитательная работа со мной,— и он никогда не использовал этих бесед для интриг против меня. И даже потом, когда я уже учился в другой школе и мы с ним случайно встретились в парикмахерской, у нас с ним произошел вполне доверительный разговор. Я заговорил о Сталине, сказал нечто вполне положительное — я тогда так и думал,— а он оторвался от газеты, посмотрел на меня и вдруг сказал, что, конечно, все так, но судить еще рано, ибо многие всходы посеянного Сталиным еще не взошли. Это — о божестве, не имеющем измерений! И кому — пятнадцатилетнему мечущемуся мальчику!
Но на поведении его в школе это не отражалось, он планомерно продолжал меня выживать. Привыкли они разделять личное и общественное! Культивировалась же в их среде как доблесть готовность топтать и предавать «вредных делу» людей, не считаясь с личными их качествами и личными своими симпатиями. Правда, в данном случае «вред» от меня мог произойти только для него, а не для «дела», но навыки уже были выработаны. А ситуация и впрямь была сумасшедшая. Он имел все основания бояться моего «гражданского пафоса», ибо, в случае чего, поскольку это произошло в «его» школе, мои грехи приплюсуются к его биографии, и ему не выплыть. Конечно, он действовал очень брутально, но ведь пребывание в партии, да еще неподалеку от ее относительных верхов (к тому же на Украине во время коллективизации), не приучало его к «белым перчаткам», в которых, по известным словам Ленина, не делаются революции. Я отнюдь не оправдываю его, тем более его гнусностей, и вовсе не думаю, что он был хорошим человеком. Но сам режим, которому он служил, был изначально гнусен и становился все гнусней. Он был человеком, нравственно искалеченным партией и временем.
Вероятно, это же можно отнести и к завучу. В конце концов, я о нем мало знаю, у него тоже могли быть обстоятельства, вынуждавшие его поступать так, а не иначе,— в те времена у многих бывали «обстоятельства». Но из того, что и как я о нем помню, этого не выходит, выходит мелкий человек, желающий угодить начальнику или способный почувствовать себя оскорбленным тем, что кто-то (пятнадцатилетний мальчишка) «много об себе понимает», готовый из мести или угодничества на низость, подобную той, о которой я рассказал. В жизни всегда было достаточно подлости, но все же не задача учителя — обогащать опыт учеников ранним общением с ней. Между тем он нам всем преподал урок торжествующей подлости.
Искушенный современный читатель, даже уже не очень молодой, но лет на двадцать моложе меня, может подивиться моей наивности. У него почти с малолетства нет иллюзий. А у меня, росшего во времена массированной подлости — раскулачивания, ягодщины, ежовщины, такой наивности и вовсе не должно было быть. Чему было так удивляться? Тем более пытаться удивить кого-то былой житейской (во всяком случае, с виду) подлостью сегодня, во времена покупных отметок, «зарезанных» по поручению начальства абитуриентов, мафий и рэкета. Но я никого не хочу удивить, я просто хочу рассказать, как к этому шло и как это было.
Удивляться было чему, хоть это были времена массированной подлости и полыхала она как пожар на громадных пространствах. Но общая подлость времени очень долго людям не причастным (и не задетым!) не была ясна. В сферу политики, идей и т. п. из них мало кто вмешивался, и многим происходящее там казалось драмой идей, пусть неблизких, пусть странных, но идей. А это не ассоциировалось с подлостью. Мгновенной проекции этой подлости на быт, в том числе и на школьный быт, не было. Это сказывалось, но постепенно. Скачкообразный рост компрометации моральных норм и утверждения бесчестья шел с политических верхов, из сталинского окружения, и распространялся медленно (путем подбора «кадров» прежде всего). До школы он дошел не сразу. Поэтому неудивительно, что, столкнувшись с открытой элементарной подлостью со стороны людей, считавшихся педагогами, я был ошеломлен.