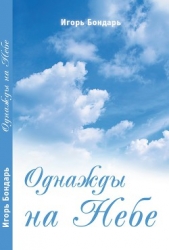В соблазнах кровавой эпохи

В соблазнах кровавой эпохи читать книгу онлайн
О поэте Науме Коржавине (род. в 1925 г.) написано очень много, и сам он написал немало, только мало печатали (распространяли стихи самиздатом), пока он жил в СССР, - одна книга стихов. Его стали активно публиковать, когда поэт уже жил в американском Бостоне. Он уехал из России, но не от нее. По его собственным словам, без России его бы не было. Даже в эмиграции его интересуют только российские события. Именно поэтому он мало вписывается в эмигрантский круг. Им любима Россия всякая: революционная, сталинская, хрущевская, перестроечная... В этой книге Наум Коржавин - подробно и увлекательно - рассказывает о своей жизни в России, с самого детства...
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А наш директор знал заранее, куда идет дело. Может быть, потому, что знал, откуда оно шло. Поразительно, что при всей травле он никакой личной враждебности ко мне не испытывал, скорей симпатию. И иногда потом разговаривал со мной вполне откровенно. Но это потом.
Я не помню, что именно он предпринял сразу, но какая-то атака была. Причем имела она целью, как вскоре стало ясно, выпереть меня из школы. Известную роль, кроме баллады, сыграло в этом и каким-то образом попавшее ему на глаза другое мое стихотворение — «Лирическое отступление» (подражание асеевскому). Его он счел упадническим. Дело вышло громкое. Оно усугублялось еще одним моим «преступлением» — я «проявил неуважение» к Герою Советского Союза, участнику боев на озере Хасан. Это была первая, еще до боев в Монголии, схватка наших войск с японцами, и тогда много о ней писали в газетах и говорили по радио. Пионеры клялись этими героями. А я... На самом деле никакого неуважения к этому герою я не мог проявить, ибо его не испытывал. Было другое. Однако расскажу по порядку.
Была устроена встреча нашего отряда с этим героем, тогда курсантом артиллерийского училища. Для этого мы с нашей пионервожатой приехали в училище на Соломинку. Нас принял довольно приятный рыжий парень, видимо, член комитета комсомола, отвел в какой-то класс, усадил, сел за стол, предупредил, что герой сейчас придет, и стал говорить что-то подобающее случаю. Мы, как положено в таких ситуациях, молча внимали. Когда появился сам герой (я помню его фамилию, но не хочу ее называть, ибо он тут вообще ни при чем), рыжий сделал соответствующий знак рукой и вполголоса предложил: «Встаньте, ребята, встаньте...» Все встали, я не встал. Вот и вся история. Почему я это сделал? Я вполне уважал героя и его героизм, но меня оскорбила преднамеренность, инсценировка такого дружного проявления этого уважения, словно его на самом деле не было и надо было его имитировать. Конечно, в своих истолкованиях я был не совсем прав. Рыжий ничего не собирался инсценировать — его просто подвела инерция военных ритуалов, вполне уместных в армии, но не уместных на гражданке. Но слишком много было вокруг фальсификаций, слишком они меня раздражали, и слишком похож был этот эпизод на любую из них, так что в каком-то смысле я был и прав. Но когда я вспоминаю, что было с этими хорошими ребятами года через полтора после моего «подвига», в 1941 году, мне становится не по себе — лучше бы встал. Но независимо от моих чувств — тогдашних и позднейших — поступок этот в то время работал против меня, приплюсовывался к числу моих прегрешений.
Не помню, стали меня тогда гнать из школы или нет, но произошло что-то такое, отчего я, возмущенный, отправился искать правды и защиты в райком комсомола. С чего я взял, что секретарь райкома должен разбираться в поэзии и вообще в тех проблемах, которые меня волновали, сказать трудно. Часто потом мы в своем кругу издевались над невежеством всяких руководителей в наших делах. Но тут ничего нельзя было поделать — им вменено было в обязанность нами руководить и нас учить, а они не отказались. Но я ведь шел сам за поддержкой, уверенный, что если что-то понятно мне, то уж им, старшим товарищам, и подавно. По родству идей.
Наша школа находилась в ведении Железнодорожного райкома ЛКСМУ. К его секретарю товарищу Миндлину меня пропустили беспрепятственно, хотя у него сидели какие-то люди. Обстановка мне понравилась: люди в спецовках, гудки паровозов за окнами, гуща жизни. Тогда еще по инерции стиль поведения в райкомах комсомола оставался внешне менее официальным и более простым, чем после войны. Я сильно приободрился — ведь в отличие от булгаковского профессора Преображенского я «любил пролетариат», даже был воспитан в духе романтизации этого класса.
— В чем дело? — повернулся ко мне довольно дружелюбно товарищ Миндлин.
Я вкратце изложил свои обстоятельства. Несколько ироническое добродушие еще не покинуло его.
— Ну давай прочти, посмотрим.
Добродушие покинуло его, когда он услышал эпиграф. Эпиграф был из асеевского «Лирического отступления» — строки про «мертвый мир былого»:
...я доволен буду малым,
если грохнет он обвалом,
я и то почту за счастье,
если брызнет он на части,
если, мне сломавши шею,
станет чуть он хорошее...
Лицо товарища Миндлина посуровело.
— Это ты написал? — грозно спросил он, ткнув в мою сторону указательным пальцем, хотя перед чтением я торжественно произнес: «Эпиграф». Может, он не знал смысла этого слова, а может, впечатление от этих «ужасных» строк вышибло это слово из памяти.
— Нет, — удивленно ответил я. Дескать, как можно не знать таких простых вещей?
— А кто? — не снижал тона товарищ Миндлин.
— Асеев.
— Что? — взревел товарищ Миндлин.— А ты знаешь, кто это такой?
Бедный секретарь спутал Асеева с Есениным, который тогда официально не одобрялся, и просить защиты у райкома, принеся стихи с эпиграфом из него, было бы наглостью.
— Знаю,— сказал я.— Поэт, друг Маяковского, его сейчас на Сталинскую премию выдвинули.
Тревога товарища Миндлина несколько улеглась. Но подозрительность осталась. И тут он задал свой самый знаменательный вопрос:
— Какого года издания книжка?
В этом вопросе — подсознательное признание происшедшего переворота. И даже его характера. Все книги, изданные до определенной даты, пусть в советских же государственных и партийных издательствах, подозрительны. Мало ли что могли там эти «враги народа» напропускать. Хотя вроде мог и знать, что ни Есенина, чье авторство он заподозрил, ни упадничества, в котором заподозрил меня, эти «враги народа» и сами очень даже не жаловали.
Но он зря беспокоился. Книжка была самого недавнего года издания. Тем не менее камертон разговору был дан. Меня начали воспитывать, что-то мне объяснять. От меня требовали скромности.
В принципе обвинения в отсутствии скромности я тогда вполне заслуживал. Думаю, что это объяснялось не свойствами характера, а возрастом и идеологией — ведь еще недавно молодежь воспитывали на том, что она все понимает лучше старших. Правда, уже несколько лет нас ориентировали на «авторитет учителя» (жертвой одной из кампаний по его внедрению я скоро стану), но это шло как-то параллельно. Кроме того, самомнения прибавляла мне и приобщенность к авангардизму и к творчеству. Да и мой любимый Маяковский не располагал к скромности. Но в данном случае требование скромности означало требование отказаться от самостоятельного мышления. В сущности, я ведь доказывал очевидное — что Асеев не Есенин, что он друг Маяковского.
Очень рассмешили меня тогда слова сидевшего рядом рабочего. Он сказал серьезно и доверительно:
— Максима Горького читал? Там у него тоже... этот... сокол... Тоже высоко летал... Как бы и тебе так не кончить...
Тогда меня это насмешило. Как же! Истолковать «Песню о Соколе» прямо противоположно ее смыслу, как призыв не летать,— это надо было уметь! За это в школе поставили бы двойку! Но сегодня меня это не смешит. Ну так этот рабочий не знал и не понимал литературы и даже Горького — что из этого? Зато он чувствовал, в какое время живет, и давал мне добрый совет. Конечно, можно спросить — зачем ему было быть при этом комсомольским активистом? Но на то и двоемыслие, мозги были запутаны не только у меня. По-разному, но у всех.
Так или иначе, дело рассосалось.
Вероятно, на независимости моего поведения как-то сказывались мои относительные успехи в, если можно так выразиться, юношеских литературных кругах. Писали мы — я и мои друзья — все серьезней, наш вес в литкружке вырос, мы стали там доминировать. Однажды даже выпустили свой журнал и отправили на конкурс, объявленный «Пионерской правдой». Оттуда пришел восторженный отзыв Елены Ширман (отметившей, к слову сказать, всех, кроме меня). Но несмотря на этот отзыв, премии нам, по ее словам, не полагалось — мы не выполнили каких-то условий конкурса. Это была высшая точка нашего успеха.
С увлечением поэзией, все более серьезным отношением к ней связано и более быстрое интеллектуальное развитие. Вело это и к расширению круга знакомств, иногда очень ценных и интересных. Сблизились мы и с Ариадной Григорьевной, стали бывать у нее дома. Муж ее оказался очень интересным и необычайно образованным человеком, по любому возникающему вопросу у него можно было получить самые исчерпывающие и при этом нетривиальные сведения. По профессии Адочкин муж был журналист, но я почему-то считал, что он «только» фотограф, и это сбивало меня с толку. По дикости я тогда еще не знал, что бывают фотографы экстра-класса, художники, впрочем, и сама Адочка, несмотря на молодость, была вполне ему под стать. Мне повезло, что с самого начала сознательной жизни я встретил таких людей.