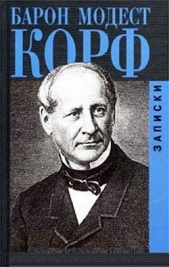Записки старого петербуржца
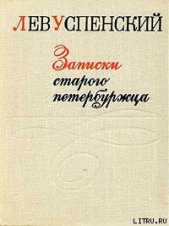
Записки старого петербуржца читать книгу онлайн
Книга известного ленинградского писателя, блестящего знатока и летописца города на Неве, доносит до нас живые и яркие картины жизни Петербурга в начале XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Те первые телефонные аппараты — выпускала их фабрика «Эриксон», тут же, на «шведо-финской» Выборгской [18], — с нашей нынешней точки зрения, показались бы необыкновенными страхидами. Они висели тяжкие, крашеные под орех, похожие на тщательно изготовленные скворечники. Микрофон у них торчал вперед чуть ли не на полметра. Говорить надо было, дыша в его тщательно заделанный медной сеточкой раструб, а звук доходил до уха через тяжелую трубку, которую, совсем отдельно, нужно было приставлять к нему рукой.
И были две кнопки — левая "а", правая "б". Левую надо было нажимать, вызывая номера до 39 999; правую — если нужный вам номер начинался с четверки.
Отвечала «барышня». Барышню можно было просить дать разговор поскорее. Барышню можно было выругать. С ней можно было — в поздние часы, когда соединений мало, — завести разговор по душам, даже флирт. Рассказывали, что одна из них так пленила милым голоском не то миллионера, не то великого князя, что «обеспечила себя на всю жизнь».
Словом, вот какая была чудная архаика; теперь даже самому не верится. А ведь — было!
А электрический домашний свет?
Выборгская сторона в этом смысле значительно отставала от левобережного города: там, в «городе», не только на улицах на много лет раньше загорелись электрические фонари (на целую эпоху раньше!). На Выборгской вплоть до самой Революции царствовали еще газ и керосин, и в домах здесь «электричества» долго не было.
Кстати — вот и само это слово. Как просто мы говорим теперь «свет», «энергия»; а ведь тогда бы никто этого не понял: «Какой свет? Какая энергия?» Теперь же могут и не понять, если спросить: «Электричество у вас есть?» А в те годы даже поэты ставили это слово в строку и понимали под ним «электрическое освещение», «свет»:
Так еще у Игоря Северянина, в десятые годы века…
Ну так вот, с электрическим светом… Мне было, вероятно, лет между четырьмя и пятью, или пятью и шестью, когда у двух моих родичей, шивших на «городском» берегу Невы, он был проведен в квартиры. Это был и тот самый дядя Саша, генерал Елагин, который был мне явлен мамою как «хороший генерал», и брат отца, «американец» по натуре и ухваткам, дядя Леля, Алексей Успенский. Про обоих я уже упоминал.
С тех пор как я впервые попал к кому-то из них со взрослыми в гости, я пришел в неистовство. Чудо поразило меня.
Ну еще бы! Я отлично знал, какая возня поднималась всякий раз, когда требовалось привести в действие обычную нашу «выборгскую» керосиновую лампу. На кухне, на высоком ларе, установленном там благотворительным обществом для сбора в его пользу всякого, теперешним словом говоря, «утиля», всегда обреталась целая нянина керосиновая лаборатория. Стояли коробки с фитилем, другие — с хрупкими ауэровскими колпачками; хранились специальные ламповые ножницы. Там именно няня — и она видела в этом важную свою прерогативу — ежедневно утром «заправляла» лампы: наливала в резервуары керосин, ровно обрезала нагоревшие фитили, если нужно было — вставляла новые. Потом тщательно обтертые лампы разносились по местам, вмещались в специальные подвесные устройства на крюках с медными и чугунными «блоками», наполненными дробью (в одной из моих комнат и сегодня висит такой «подлампник» с синим стеклянным абажуром), в торшеры, в настольные цоколи.
Вечером надо было все их зажигать, а если фитиль был неточно отрегулирован, лампа начинала коптить, шарообразное вздутие на стекле замазывалось язычком припеченной сажи, по комнатам летала, мягко садясь на скатерти, жирная керосиновая сажа. Поднимался крик, нам, детям, вытирали и мыли почерневшие ноздри… Хлопот — полон рот!
А тут — дядя Саша, поманив меня пальцем: «Ну, отпрлыск, смотрли… Техника на грлани фантастики! Рлаз, два, трли!» — повернул медную ручечку на таком же медном выключателе, и я не поверил своим глазам: под потолком зажглась лампа. «Эйн-цвей-дрлэй!» — лампа потухла…
Я ведь пишу это не для того, чтобы зафиксировать забавный анекдот из собственной своей биографии. Я пишу для того, чтобы можно было понять, что, вероятно, где-то в палеолите были мальчишки, которым доставляло тревожное, радостное наслаждение зажигать о горячие угли травинки, гасить их ударами толстокожих пяток, снова зажигать, восторгаясь своей властью над духом огня, испытывая счастье от собственного всесилия.
Наверное, в течение года от меня можно было добиться всего, пообещав мне поездку к дяде Леле или дяде Саше. Я ехал присмиревший, предчувствуя такое великое удовольствие, согласный даже на «вести себя вполне прилично» ради него. А там мне разрешали в течение получаса или сорока минут с визгом бегать по всем комнатам, поворачивая выключатели даже в ванной комнате, даже в уборной. И затем расширенными глазами вглядываться в неправдоподобное: есть маленькая спиралька света — нет этой спиральки… Есть — нет…
Сейчас я подумал: что равноценное можно предложить моему внуку, чтобы вызвать подобную же реакцию восторга? Просто уж не знаю что! На настоящих машинах, держась за баранку, он сидел; как ночью, между редких звезд лета, ползет, то вспыхивая, то умирая, — точь-в-точь кавказский летающий светляк лючиола — какой-то там двести пятидесятый или триста седьмой спутник — видел… По телефону с бабушками привык разговаривать уже с двух лет…
А тогда — тогда ничего этого не было. Не только спутников, телевизоров, носящихся по Неве катеров на подводных крыльях, — но ни телефонов, ни электрического света, ни трамваев, ни кино…
В кино первый раз я ходил тоже, вероятно, в те же годы — не то в 1905-м, не то в 1906-м.
До этого мне уже случалось видеть многократно «туманные картины». Теперь нынешние всезнающие младенцы сплошь и рядом с полным равнодушием созерцают их у себя на дому: есть и проекционные аппаратики, есть и диафильмы.
Тогда, помню, и на туманные картины мне пришлось идти в Нобелевский народный дом, где «известная путешественница» по фамилии, по-моему, Корсини устроила для рабочих «чтение» с «волшебным фонарем» на тему «Италия».
Я был географ заядлый; я, так же как и няня, сидел на «чтении», не отрывая глаз от слабенько освещенного экрана, где вид на Везувий сменялся Лазурным гротом, Лазурный грот — раскидистыми пиниями, а пинии — все той же скорченной гипсовой помпейской собакой, отлитой по сохранившейся в толще пепла пустоте, которую я уже много раз видел в книгах. А брат мой — он же был на два года младше меня — довольно мирно проспал все туманные картины.
Впрочем, няня, выйдя из дома на морозную Нюстадтскую, тоже удивила меня. «Ахти-матушки! Только деньги выманивают!» — махнула она рукой, этой короткой формулой сразу подытожив свои впечатления.
Поэтому, когда вместо «туманных» бабушка вознамерилась повести меня на «живые картины», я не проявил сильных чувств. Живые так живые, какая разница?
На Невском, между Владимирским и Николаевской, на нечетной стороне проспекта, был тогда открыт первый то ли «синематограф», то ли «иллюзион», а может быть даже и «биоскоп», — слово еще не утряслось, не кристаллизовалось. Имя ему было — «Мулен-Руж». Я знал французский и не удивился, когда над подворотней увидел красный черепичный куполок-рекламу с небольшими крыльями. Ветряные мельницы я тоже уже много раз созерцал в Псковской губернии по летам. «Мулен-Руж» — «красная мельница»…
Вместе с другими мы, не задерживаясь ни в каких фойе, были приглашены в крошечное зальце, расселись, успокоились. Бабушка, видимо что-то зная, волновалась.
Мы сидели. Впереди белел экран. Потом погас свет. Экран вдруг затрепетал, замерцал, полился… По нему, сверху вниз, понеслись водянистые искорки, черточки, та самая кинематографическая дрожь первых десятилетий «великого немого», с которой для нас, стариков, связалось вскоре самое прелестное ощущение «синематографа»… Поперек него протянулись четыре линии, четыре проволоки. Справа появилась вершина телеграфного столба с фарфоровыми изоляторами. За столбом округлилось белое пышное облако. «Туманные картины»?!. И вдруг…