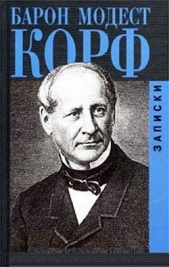Записки старого петербуржца
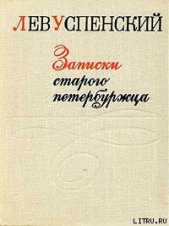
Записки старого петербуржца читать книгу онлайн
Книга известного ленинградского писателя, блестящего знатока и летописца города на Неве, доносит до нас живые и яркие картины жизни Петербурга в начале XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Конечно, хотя мы, мальчишки, финишировали первыми и я вдруг увидел совсем близко от себя горбоносый профиль маленького Латама, растерянную, не без примеси страха улыбку на его лице, — взрослые, пыхтя догнавшие нас, оттеснили нас от авиатора. Они подхватили его на руки. «Качать» тогда не было принято, а то бы плохо ему пришлось; но вот «нести на руках» — это полагалось. Латама понесли на руках, и мы были бы безутешны, если бы студентам — политехникам, технологам, лесникам, военно-медицинским, да даже и голубым околышам — универсантам — не пришла в голову блестящая идея: нести на руках и «аэроплан». И тут я восторжествовал. Я так ухватился за изогнутый, светло-желтого дерева, напоминающий хоккейную клюшку костыль машины, что если бы все сто тысяч начали оттаскивать меня от нее, оборвались бы либо мои руки — по плечо, либо хвостовое оперение «Антуанетты».
Налево был, вылепленный темными, вечерними «обобщенными» массивами, как на одной из картин Левитана, лес — Удельнинский парк. Направо — полупустые теперь трибуны. Впереди, как победителя-спартанца, на составленных в «черепаху» щитах несли на руках не совсем понимающего, за что ему такая честь в этот, не вполне удачный, день [19], львиного охотника. Сзади неспешно двигался аэроплан. Вокруг юлили чернявые французики-механики, но опять-таки они скоро махнули на все рукой и отдали свой аппарат на волю русского народа. И я, счастливый, гордый толстый мальчишка, держался за свой отвоеванный костыль.
И хорошо они сделали, что отдали: донесли в полной целости!
Мы подзадержались из-за всего этого, и тоже на свое благо: не попали в самый трам-тарарам разъезда. Но и сейчас, конечно, за воротами поля было жарко.
Трамваи «двойка» и «тройка», отчаянно звоня, обвешанные до крыш, еле пробирались в возбужденной, невесть чему радующейся людской реке. Кучера собственных выездов только головами тростили, сидя на высоченных козлах: куда тут сдвинешься! Полный затор!
Но… Мы жили в мире частного предпринимательства. Все извозчики города, чуткие, как барометр, к любой возможности подзаработать, таинственными путями — и с неменьшей точностью, нежели нынешние американские Геллапы, учитывавшие ритм общественных движений, — разведали, что готовится и что может произойти. С вытаращенными глазами, яростно нахлестывая запаленных кляч своих, они рвались к скаковому полю со всех возможных сторон; не по забитому Каменноостровскому только, но и по Выборгской и Строгановской набережным, и по набережной Черной речки… Некоторые, самые инициативные и бойкоконные, не задумывались даже хватануть в объезд, через Сампсониевский, по Флюгову, по Языкову переулкам, по Сердобольской улице, даже по Ланскому шоссе… Стоя над потрепанными передками своих дрожек, обалдевшие от азарта, с красными лицами и ухарски сдвинутыми на одно ухо своими синими извозчичьими шапками, рыжебородые, черные как цыгане, седые кроя последними словами соперников, они рвались встречным потоком к воротам, в надежде подхватить ближнего седока, сгонять с ним в город и вернуться по второму заходу… И уже, конечно, в веселой толпе появились то ли с утра принесенные, то ли где-то на месте обретенные косушки. И уже подвыпившие мужья сопротивлялись своим женам, и те костыляли их по затылку:
«Иди, иди, латам проклятый… Ты у меня дома полетишь с третьего этажа! Ты у меня полетаешь!»
Мама наша не имела соперниц в двух видах «спорта»: лучше ее, как уже говорилось, никто не умел торговаться и нанимать извозчиков.
К тому же мы были выгодными пассажирами: нас можно было везти не по «самому бою», а спокойно, по сравнительно свободной трассе — через Ланскую и прямо на нашу Нюстадтскую.
Так мы и поехали…
…Все первоначальное развитие авиации потом прошло у меня на глазах. Я видел, как М. Н. Ефимов ставил рекорды высоты и продолжительности полета. Я видел, как улетал в свой победный полет Петербург — Москва А. А. Васильев. Много-много лет спустя я имел радость присутствовать и при прилете и при дальнейшем отлете в бесконечно длинный рейс одного из последних цеппелинов с доктором Гуго Эккенером в качестве командира. Я стоял в толпе, когда к Северному полюсу отправлялась в первый рейс экспедиция Амундсена — Нобиле и изящная «Норвегия», старшая сестра злополучной «Италии», разворачивалась в ленинградском небе.
Но никогда я не испытывал такой полноты счастья, такой гордости за человека, как в тот незабываемый день, когда Юбер Латам подпрыгнул саженей на десяток над свежей травой поля за Новой Деревней и, пролетев сотни три шагов, снова опустился на ту же траву.
Я счастлив, что через полвека после этого мне довелось испытать еще один такой же душевный толчок: на этот раз на экране телевизора по ковровой дорожке к трибуне правительства шел совершенно неправдоподобным по четкости шагом неправдоподобно обаятельный молодой советский офицер, и в комнате, где стоял тот телевизор, было слышно только, как, задыхаясь, стараются мужчины не всхлипывать и не уподобляться в голос ревущим от счастья и умиления, от гордости и восторга женщинам. Это было 13 апреля 1961 года.
Нет, был — и на том же самом Коломяжском скаковом поле, кажется уже успевшем превратиться в Комендантский аэродром, — еще один вечер, которого не забудешь, — теплый вечер осени того же 1910 года.
Шел «Праздник авиации»; не в пример первым «Авиационным неделям», его участниками были по преимуществу русские, отлично летавшие пилоты — военные и «штатские». Михаил Ефимов, про которого летчики долго говорили, что «Миша Ефимов может и на письменном столе летать», А. Попов, почему-то крепко державшийся за довольно неудачный и устарелый самолет братьев Райт (его запускали в воздух без колесного шасси, на своеобразных полозьях по рельсу и при помощи примитивной катапульты), двое моряков — капитан Лев Макарович Мациевич и лейтенант Пиотровский, поручик Матыевич-Мацеевич, капитан Руднев… Были и другие.
Мне было уже десять лет; я теперь ходил на «Праздник» сам, один, не пропуская ни одного дня, и все с тем же энтузиазмом «нюхал свою касторку».
В тот тихий вечер летало несколько авиаторов; даже незадачливый поручик Горшков и тот поднялся несколько раз в воздух. Но героем дня был Лев Мациевич, ставший вообще за последнюю неделю любимцем публики.
Лев Макарович Мациевич летал на «Фармане-IV», удивительном сооружении, состоявшем из двух, скрепленных между собой тончайшими вертикальными стойками, желтых перкалевых плоскостей: в полете они просвечивали, были видны их щупленькие «нервюры» — ребрышки, как у бочков хорошо провяленной воблы. Между стойками по диагоналям были натянуты многочисленные проволочные растяжки. Сзади, за плоскостями, на очень жидкой ферме квадратного сечения летели на ее конце два горизонтальных киля и между ними два руля направления; руль высоты был вынесен далеко вперед на четырех, сходящихся этакой крышей, кронштейнах: длинный, узкий прямоугольник, такой же просвечивающий в полете, как и сами плоскости этой «этажерки».
Внизу имелось шасси — четыре стойки, поддерживающие две пары маленьких пневматических колес, между которыми, соединяя их со стойками, проходили две изогнутые лыжи. Это все также было опутано многочисленными стальными тяжами-расчалками.
На нижнюю плоскость, у самого ее переднего края (ни про какое «ребро атаки» мы тогда и не слыхивали), было наложено плоское сиденье-седельце. Пилот садился на него, берясь рукой за рычаг руля высоты, похожий на ручку тормоза у современных троллейбусов или на рукоять перемены скоростей в старых автомашинах. Ноги он ставил на решетчатую подножку уже за пределами самолета, вне и ниже плоскости, на которой сидел: ногами он двигал вертикальные рули, рули поворота. Снизу было страшно смотреть на маленькую фигурку, чернеющую там, на краю холщовой, полупрозрачной поверхности, с ногами, спущенными в пространство, туда, где уже ничего не было, кроме незримого воздуха, подвижного, возмущаемого и ветром и поступательным движением аэроплана. В тридцатых годах я некоторое время занимался планеризмом — очень живо вспомнил я, подлетывая на учебных планерах, героев, летавших на «Фарманах»…