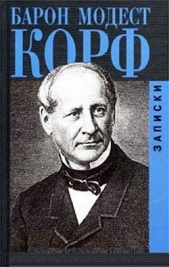Записки старого петербуржца
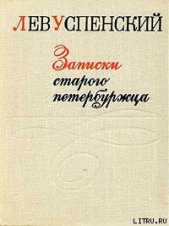
Записки старого петербуржца читать книгу онлайн
Книга известного ленинградского писателя, блестящего знатока и летописца города на Неве, доносит до нас живые и яркие картины жизни Петербурга в начале XX века.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
По-видимому, управление было с обоих концов локомотива: на тупике он не разворачивался, а просто, отцепившись, уходил на стрелку, со звоном колокола — точь-в-точь такого же, как у конок, — пробегал мимо своего состава и прицеплялся к нему уже с другой стороны.
Вагоны — коночного типа, некоторые — тоже с империалами; но были и открытые, летние. Вдоль этих на всю длину тянулись общие подножки; сиденья на платформах были расположены поперек; стенок не было, а входные проемы задергивались бело-синими занавесами, спускавшимися с крыши. На крышах и в открытых вагонах ездить было приятно, если вам, как мне тогда, в высшей степени безразличны копоть и искры, вылетавшие из короткой черной трубы на крыше коробки локомотива…
Вы садились в самом начале Сампсониевского и ехали по всей его длине — мимо Сампсониевской церкви, перед которой стоял маленький, как куколка, Петр Первый, мимо аптекарского магазина, где хозяйствовал папа Фимы Атласа, о котором я рассказывал во введении к этим запискам, мимо конфетной фабрики Георга Ландрина (теперешняя Первая конфетная), из окон которой всегда приторно пахло каким-то сиропом и сладким тестом… Потом он, пыхтя, поднимался в гору к Новосильцевской и круто сворачивал вправо, огибая парк Лесного института.
Это было очень интересно, потому что рельсы по узкой Новосильцевской, на ее левой стороне, были проложены у самого желтого каменного забора-стены, и он проходил в пугающей близости от глаз, как скалы на некоторых кавказских дорогах, и я всегда ожидал этого, в семь лет — волнующего, момента. А справа уже зеленели удивительные деревья, на каждом из которых висела табличка с надписью: «Даурская береза», «Клен широколистый», «Лиственница европейская», и это было еще удивительней, ибо я всю жизнь любил, когда мне что-нибудь объясняют. А внизу, в молодой траве, — мы ездили туда чаще всего весной — уже лиловели нежные кисточки хохлаток, солнечно золотились веселые цветки гусиного лука, а кое-где можно было уже разыскать и наивно-синюю печеночницу, которую завтра будут продавать на Невском, называя «подснежником», и чисто-белые чашечки диких, милых анемон-ветрениц…
И вот мы слезаем и проходим в парк, сквозь калиточки, охраняемые только красно-коричневыми крестовниками деревянных турникетов (и я узнаю это слово!), и огибаем белые корпуса института (а я представления не имею, что буду двадцать лет спустя слушать тут Сукачева, Холодковского, Римского, сдавать систематику споровых, указывать в груде лишайников на столе то «Evernia frunnstri», то «Xantoria parietina», а то и плоское слоевище «Cladoniae»), и видим желто-красные домики профессорского состава, и мне говорят, что в одном из них живет сам Кайгородов… И я, раскрыв рот, смотрю на домик с почтением: «Сам Кайгородов!»
Кто теперь, полвека спустя, помнит, кем был Дмитрий Никифорович Кайгородов, деловитый и влюбленный в свое дело предтеча современной нашей фенологии, упрямо сообщавший во всех газетах, не обращая внимания ни на восстания, ни на войны, о том, что «12 апреля был слышен первый свист скворца», а «5 мая лягушки в Институтском пруду начали икрометание». Над ним посмеивались, на него помещали безобидные карикатуры, а он наблюдал и писал. И если его теперь вспоминают только фенологи, если даже им он порою кажется наивным дилетантом, то — что поделаешь? Все мы — «конки» и «извозчики» на великом пути прогресса. Всем нам, работникам и науки и искусства, кроме разве уж звезд самой первой величины, всем нам приходится через полвека, через столетие выглядеть как нечто устарелое, как нечто давнопрошедшее, милое, но вроде как уже и не заслуживающее внимания.
А ведь это — несправедливо, и не к лицу изобретателю пятикубового экскаватора заноситься перед тем, кто когда-то вытесал из дерева первую лопату.
Очень трудно сказать, кто из них двоих ближе к гениальности и кому человечество — знай оно в лицо, по имени конструктора той лопаты или весла — с большим основанием водрузило бы памятник.
А впрочем, я, что называется, отвлекся. Буйный дух воспоминаний захватывает в свою власть семидесятилетнего человека, и они начинают ветвиться и шириться уже независимо от его воли, вызывая на свет когда-то не додуманные мысли, все то, что казалось и перестало казаться важным… Вернемся к теме.
С другой, Невской, паровой линией городских железных дорог меня связывают куда более поздние воспоминания, и я еще возвращусь к ним.
Тут все было по внешности точно таким же, как и там: такие же паровички, такие же вагончики; не берусь сказать, были ли среди них открытые летние платформы.
Могло и не быть: маршрут был «не тот». Там в конце зеленели два отличных парка — Лесной и Удельнинский, начинались дачные места… Как это ни странно звучит сейчас, а ведь не только лесковские «совместители» обделывали свои делишки на дачках в Лесном во дни министра Канкрина; в самый год революции у меня было несколько знакомых, выезжавших на лето именно туда и наслаждавшихся природой в радиусе километра от Круглого пруда. На такой линии и вагончики могли уже иметь дачно-пригородный вид.
Здесь же, как только паровозик сворачивал к Неве, оставляя лавру вправо, начинались строгие фабрично-заводские места. Непрерывная цепь предприятий тянулась, как и сейчас, вдоль левого берега Невы. Мельница Мордуха и Невский стеариновый, Фарфоровый заводы, и амбары Невской лавры (лавра тоже была своего рода весьма крупным предприятием), Невский механический и Судостроительный, Невский химический, Главные вагонные мастерские Николаевской дороги, Главные паровозные мастерские Александровского завода, бумагопрядильная и ткацкая фабрика Губбарда, такая же фабрика «Петровского товарищества»… Фабрики, фабрики, заводы… Высокие кирпичные заборы; проходные возле сурово закрытых ворот; металлические вывески на проволочных решетках над ними: здесь — «И. Ф. Губбард и К€», на той стороне реки — «Альфред-Перси Торнтон и Ко»… Двуглавый имперский орел — и компания. Да еще какая большая компания!
Казалось бы, и сегодня, едучи по этой «трассе» в двадцать четвертом или седьмом трамвае, вы увидите то же самое: заборы, заводские трубы, рабочих, высыпающих в часы смен на тротуар из проходных. Но…
Да этого, пожалуй, не поведаешь словом; для меня адская разница в атмосфере, в самом воздухе, в самом духе не столь уж отдаленных наших заводских районов и тогдашних далеких застав. Для меня она лучше всего выражена в песнях тех дней, в шарманочной зауныви, в оголтелом реве граммофонов сквозь открытые окна трактиров и портерных, в завывании подвыпивших и вовсе пьяных людей на откосах набережных. «Вечер вечереет…», «Маруся отравилась…»
Это очень трудно выразить; но в созданных через много лет песнях для кино — в поразительной «За далекой за Нарвской заста-авой…» — кинематографисты, поэты и композиторы сумели передать и этот душный, горький, Этот пыльно-солнечный и чем-то остро хватающий за душу настрой нищей, невыносимой, окраинной городской тоски, которая все-таки была жизнью, где все-таки пробивался зеленый росток надежд…
Да, на этом маршруте, пожалуй, не было оснований пускать по рельсам открытые, праздничные платформы… А впрочем, может быть, их все-таки пускали?..
Сев у дома Фредерикса, вы, если располагали временем и терпением, могли заехать невесть куда. За часовней «Скорбящей», где перед образом со вплавленными в дорогую ризу чудотворными медными копейками и полушками всегда рыдала, крестилась, шептала молитвы толпа, мимо нахмуренных корпусов «Обуховца», вспоминающего прославленную свою оборону, паровозик увозил вас почти за город, туда, где начинались скудные березки, где на другом берегу лепились по горке кулацкие домики немецкой Саратовской колонии, где уже голубела на горизонте «тьма лесов и топь блат», как во дни Петровы, и где по-прежнему там и сям «рыбарь бородатый» вполне еще мог «колотить дырявый челн».
Вас обгоняли парные выезды директоров и членов заводских правлений — господина Гартмана Ричарда Федоровича, управлявшего Невским химическим, господина Берхгольца, ведавшего землями богача Паля, чьим именем долго еще назывался нынешний проспект Елизарова, господина Ферветтера с Петровской бумагопрядильной — по большей части все немцев. Но в ваш вагон садились и рабочие тех же заводов и фабрик; могли ехать с вами с самого начала и тихая курсисточка, в порыжелом саквояжике у которой лежала новая брошюра, полученная только что для передачи в собственные руки какого-нибудь «товарища Петра» в желтом домике на третьем Палевском луче, и «гороховое пальто», делающее вид, что с увлечением читает очередной выпуск «Антонио Порро, мускулистого преступника», но из-за книжки нет-нет да бросающее быстрый, пронзительный взгляд на списанного на берег матроса с великолепными усами над губой и с надписью «Рюрик» или «Андрей Первозванный» на бескозырке…