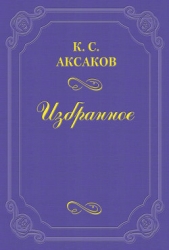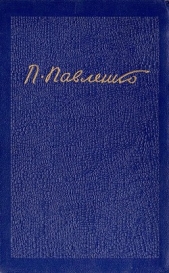Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Первые петербургские повести и «Пиковая дама», как и «Медный всадник», во многих отношениях глубоко близкий «Шинели», писались одновременно и во время личного дружеского общения обоих великих писателей. Их близость — это, скорей всего, не «влияние» одного на другого, а единство поисков обоих друзей в ответ на одни и те же процессы в самой действительности.
Однако близость здесь никак не может быть принята за тождество. Не говоря уже о существенных различиях художественного метода Пушкина и Гоголя, самая мера и содержание отрицания социальной действительности в их прозе 30-х годов была различна. В частности, в «Пиковой даме» Пушкин отвергает «дух» века-банкира, века капитала, покоряющую Запад и уже Россию власть денег. Гоголю ненавистны те же явления современности («Портрет»). Но его отрицание шире. Он отвергает и прошлое официальной России, как и ее буржуазное грядущее. Он отвергает всю структуру современного ему общества сверху донизу и без остатка.
И хотя пушкинская критика радикальна и прогрессивна, все же она исходит из сознания человека, в принципе мыслящего себя самого наверху общества, как призванного своим местом в обществе руководить им. Демократизм Пушкина принципиален, но теоретичен, Пушкин идет с высот своего духовного аристократизма к признанию стремлений народа высшей правдой. Гоголю же в этом отношении никуда не надо идти. Он сам среди обиженных обществом и практически и в принципе (Пушкин и его общественный слой практически обижены, но в принципе претендуют на руководство). Он — чужой среди всяческих «высот» данного общества, и общество это нацело враждебно ему. Он демократичен не столько умом, сколько оскорбленным личным чувством человеческого достоинства. Его демократизм — жизненный, выстраданный в толще жизни, уже «разночинский», хотя и стихийный, неорганизованный, в конечном счете даже неустойчивый в своих политических выводах.
Тема власти денег увидена Пушкиным в ее вторжении в гостиные и залы, где царили Томские и куда пришел чужой человек, инженер Германн. Тема власти денег увидена Гоголем в ее вторжении в бедные комнатки петербургских нищих художников, совращаемых и вовлекаемых в чужой мир роскоши. Пушкин увидел «бедного чиновника», маленького человечка, и вступился за него, — и в этом его большая демократическая заслуга; он увидел его в станционном домике, проезжая на почтовых. Гоголь живет среди маленьких человечков и бедных чиновников. Нищета, оскорбленное достоинство, гибель жертв общества для Пушкина — тема, пусть самая больная и важная. Для Гоголя все это — мир, его окружающий и давящий, это и «программа», так как борьба с этим — цель его жизни и творчества.
Самая, казалось бы, фантастическая, невероятная повесть из всего гоголевского цикла — «Нос». Вся она как будто построена на абсурде, нелепости, противоестественности. И современники, даже тонко образованные люди, как видно, нелегко могли уразуметь смысл этого бреда дикой фантазии: отвергли же друзья Гоголя (именно друзья, а не враги!) из «Московского наблюдателя» эту повесть; впрочем, есть достаточно авторитетные свидетельства того, что отвергли ее как «грязную»; а это значит, что, и не уразумев сути дела, эти друзья Гоголя, блюстители высоких идеалов дворянской культуры, а то и салонной эстетики, почуяли, что «Нос» — не просто шутка, а резкая сатира, устремленная к подрыву основ их бытия и самосознания. Иное дело — Пушкин, как видно, все понявший и принявший повесть в свой журнал.
Следует сказать, что и сам Гоголь в тексте «Носа» подчеркивает нелепость описываемых в нем событий. Как уже указывалось выше, он и начинает-то изложение фразой об этом: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие…» Между тем тут же, уже этим точным указанием даты, как и места события, «происшествие» это отнесено к миру не фантастическому, а именно совершенно реальному; да ведь если бы речь шла о настоящей фантастике, ничего особенно странного в противоестественных явлениях и не было бы.
Сказка не выражает удивления по поводу того, что зверь в ней говорит человечьим голосом; в сказке так и быть должно, и ничего «необыкновенно-странного» в таких явлениях для мира сказки нет. Так же нисколько никого не поражает существование чертей и ведьм в повестях «Вечеров на хуторе».
Наоборот, действующие лица этих повестей готовы видеть фантастику даже там, где ее нет, как, например, в «Сорочинской ярмарке», и автор не отделяет себя от своих героев в этом отношении.
То же, и по отношению к романтической фантастике: у Гофмана пение зеленой змейки на дереве и для романтика-автора и для его героя — явление вполне «естественное», хотя и недоступное оку пошлых обывателей, и ничего особо странного в нем не видит сознание, полагающее, что действительность — это мираж, поток видений и т. п. Наоборот, у Гоголя происходят вещи необыкновенно странные, противоестественные, и происходят они в мире совсем не фантастическом, не миражном, не воображаемом, а в реальнейшем Петербурге такого-то числа.
Что же это за странные вещи? Читаем далее первые фразы повести — и недоумеваем: ничего удивительно странного не происходит; напомню опять: «Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно-странное происшествие…» Какое же? Посмотрим: «Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «и кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич…» — после этого комически протокольного начала мы ждем чего-то удивительного — «… проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы…» и так далее.
Где же странное происшествие? Или мелочи быта Ивана Яковлевича так уж странны, противоестественны, нелепы? Конечно, они, по Гоголю, совершенно дики. И потому-то, когда среди этих мелочей появляется запеченный в хлеб нос майора Ковалева, Иван Яковлевич испытывает ужас (перед полицией, неприятностями), его супруга испытывает негодование (по поводу дурного исполнения цирюльничьих обязанностей ее супругом), но никто из них не выражает особого удивления, хотя Иван Яковлевич и не может понять, «как это сделалось», и говорит, почесав рукою за ухом: «Пьян ли я вчера возвратился, или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..»
И все же разрыва между «несбыточным» появлением носа в хлебе и бытовой реальностью нет, но по причинам, обратным «монизму» сказки: там это было единство мира мечты, здесь единство мира действительности социального зла. У романтиков ни герои, ни автор не поражены «сверхреальным», потому что и герои и автор веруют в два мира, реальный и сверхреальный. У Гоголя герои не поражены противоестественным событием, ибо они вообще живут хоть и в совершенно реальном, но не менее того диком и противоестественном мире, укладе жизни; а автор поражен (и возмущен), ибо он понял противоестественность всего этого уклада, и для него «необыкновенно-странно» и то, что нос оказался в хлебе, и то, конечно, как живут все эти Иваны Яковлевичи, для которых весь мир с его чудесами замкнут кругозором страха: после слов Ивана Яковлевича «Ничего не разберу!..» следует: «Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром… и он дрожал всем телом». И это красивое шитье, приводящее человека в ужас и беспамятство, красота и великолепие, оказывающееся не утехой человека, а гибелью его, — противоестественны. Так уже в первой, вводной главе повести, посвященной цирюльнику Ивану Яковлевичу, намечается мотив, который образует своеобразие сатирического гротеска во всей повести.