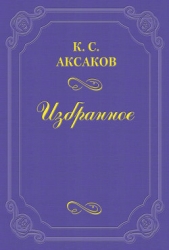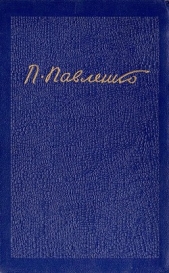Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Таким образом, как бы ни ориентировались романтики начала XIX века в своих фантастических произведениях на фольклор, — их фантастика уже потому вовсе не фольклорна, что первобытный фольклор относится к фантастическому как к объективно реальному, а романтик видит в фантастическом лишь реальность, субъективно пережитую; для фольклора фантастическое — это воплощение реальных сил бытия, природы, жизни; для романтика оно — лишь воплощение его отношения к природе, жизни.
Очевидно, что фантастика гоголевских повестей о Петербурге, лишенная субъективизма, предназначенная раскрыть смысл и характер объективнейшей социальной действительности, окружающей автора, не имеющая ни малейшего отношения к порываниям мечтательного духа поэта в «ту сторону» и, наоборот, направленная на углубление в «эту сторону», — не имеет отношения и к романтической фантастике в целом. Чрезвычайно ясно выразил сущность романтической фантастики Гофман в повести, вообще как бы программной в этом плане, в «Золотом горшке», — в частности, в концовке ее, где герой, женившись на дочери Саламандра, духа огня, удаляется с ней из жизни обыденщины в волшебный замок мечты, поэзии, романтики и фантастики, где и пребывает, недосягаемый для низменной жизни пошляков. Туда, в эту волшебную сферу фантазии, устремляется и сам поэт и там обретает фантастическое.
Устремление Гоголя прямо противоположно: он покидает всяческие обольщения и мечтания, он разбивает всяческий субъективный покой для того, чтобы увидеть подлинный облик именно низменной жизни пошляков; и вот фантастической оказывается вовсе не мечта жизни духа, а как раз наоборот — самая низменная жизнь пошляков.
Никакие мечты Пискарева не сравнятся по своей фантастичности с бредовой реальностью чиновников-носов, с реальностью Акакия Акакиевича и т. п.
Для романтиков фантастическое — это в принципе непременно нечто более высокое, прекрасное, чем обыденное; для Гоголя фантастическое — это суть самого обыденного. Значит, для романтиков фантастическое (мечта!) предстоит как благо, для Гоголя — как зло, как суть зла.
Разумеется, не все петербургские повести Гоголя в данном отношении, как и в других, совершенно одинаковы; так, например, очевидно (я уже упоминал об этом), что «Портрет» стоит ближе к романтической традиции, «Нос» или «Шинель» — дальше от нее. Но сейчас речь идет об общем характере и смысле всего цикла, и потому относительные различия здесь могут не приниматься в расчет, тем более что они не так уж велики и не меняют общей картины.
Антиромантическая фантастика — такова эта общая картина, или, иначе говоря, — реалистическая фантастика. Разумеется, ничего странного в таком словосочетании нет. Реализм — это не обыденщина, вообще не просто отбор тех или иных тем или образов, а система художественно воплощенного миропонимания. Нет и не может быть никаких образно-тематических запретов для реализма (нельзя, мол, реалисту писать сказку или легенду и т. п.), как, впрочем, и для романтизма. Романтик мог написать вполне бытовую повесть или роман, не переставая быть романтиком (например, «Аббадонна» Полевого или «Грациелла» Ламартина), так же как реалист мог написать вполне мечтательную или фантастическую вещь, не покидая почвы мировоззрения реализма; «Медный всадник» — реалистическая поэма, и «История одного города» — реалистическая сатира, несмотря на то, что у Пушкина неясно, стоит ли памятник на месте или действительно скачет по улицам города, а у Щедрина совершенно ясно, что в голове у губернатора испортилась машинка и т. п., хотя, вообще говоря, в реальности людей с машинками в головах не бывает. Реализм — это не сумма вещей, которые бывают в жизни, а система образов, раскрывающая, объясняющая и судящая жизнь такою, какой она действительно есть, то есть как ее понимает, отражает и оценивает самая передовая социальная, демократическая мысль человечества, — в пределах XIX века мысль критического реализма, а затем — социалистического.
Все сказанное снимает и вопрос об отношении фантастики гоголевских петербургских повестей к символизму и к символистической трактовке творчества самого Гоголя. Ни о каком «касании мирам иным», ни о каком стремлении изобразить «высшую реальность» (realiora), парящую над обыкновенной действительностью, в применении к этим повестям, не может быть и речи; наоборот, Гоголь в них нисколько не покидает единственно видимого им мира вполне земной и весьма обыкновенной реальности. Он хочет только дать ее портрет в портрете суммарного, более того — интегрального единства города, как социального бытия множества людей; он хочет изобразить не просто ряд признаков жизни этого города, ряд картин бытия ряда отдельных людей, а изобразить единую суть многоликого, противоречивого, разрозненного существования и города и людей, его составляющих; и эта суть есть суть современного ему общественного уклада вообще.
Не вина, а трагедия Гоголя в том, что суть эта оказалась античеловечной, злой, в глазах Гоголя — безумной и ему непонятной, не укладывающейся в нормы не только его одобрения, но и в нормы его разумения вообще. А ведь это была единственная реальность, окружавшая его в Петербурге, да и в России Николая I в целом. Уйти из этой реальности Гоголю и в 1833 и в 1839 году было некуда, и именно потому, что никаких «миров иных» в его творчестве (и, конечно, в сознании) не было вовсе, и, следовательно, символисты, во что бы то ни стало жаждавшие вчитать в Гоголя и «миры иные» и символику, искажали облик Гоголя в основе.
А так как спасения от лап безумной сути Петербурга Гоголь в петербургских повестях не видит, так как он замкнут здесь миром этого безумного (или «фантастического») бытия, то ему остается либо впасть в отчаяние, либо искать опасения здесь же, внутри безумного мира, искать истины под оболочкой лжи.
И то и другое есть в петербургских повестях, колеблющихся между безнадежностью и утверждением блага, глубоко упрятанного в недрах общественного зла, поглотившего благо. Потом придет время, когда Гоголь, отрекаясь от своего прошлого, признает нормальным общество, прежде объявленное им безумным; тогда он сам добровольно станет частью безумия общества зла; и в самом деле, он стал безумным, даже в простом медицинском смысле, в конце своей жизни; таким образом, метафора безумия сделается реальностью в биографии творца этой метафоры.
Если уж непременно искать для фантастики петербургских повестей предшествий или аналогий, видя в историко-литературном изучении обязательно сближения разного типа (мне-то думается, что различения в нашей науке едва ли не важнее сближений, хотя они и соотнесены с ними), — то, разумеется, надо привлекать к делу не поэтическую и народную мифологию «Вечеров на хуторе» и не романтиков с их мечтательством, а Пушкина и, может быть, в порядке эпохальной аналогии отчасти Бальзака. О Бальзаке по отношению к «Портрету» говорит в своей статье об этой повести Н. И. Мордовченко. Впрочем, фантастика Бальзака, скажем в «Шагреневой коже», более аллегорична, в гораздо меньшей степени пронизывает изложение, не становится принципом истолкования общественной действительности; она остается главным образом сюжетной рамкой и морализирующим выводом из изложения, а само изложение не несет ее в себе; она оказывается ярлыком, подписью под картиной, причем сама картина нравственной гибели человека в мире капиталистической жадности желаний всем своим составом и характером ничего не говорит такого, что бы внутренне оправдало фантастику. Иное дело Пушкин, в частности — «Пиковая дама»: эта повесть так же колеблется между фантастикой и «естественностью», как, скажем, «Записки сумасшедшего» или «Шинель»; она так же пронизана колоритом, атмосферой ненормального бытия, и она заканчивается безумием героя, как «Невский проспект» или «Записки сумасшедшего», и это нарастающее безумие так же окрашивает изложение повести.
Важнее же всего то, что эта «фантастика» безумия возникает и у Пушкина и у Гоголя из темы Петербурга 1830-х годов, понятой в свете тех же проблем исторической действительности. Отсюда тема денег, жажды богатства и отчаяния бедности и у Гоголя в «Портрете», и в «Шинели», и в «Записках сумасшедшего», — и в «Пиковой даме»; и тема обмана, лжи, нравственной гибели, рядящейся в одежды высокого: пери чистой красоты — это проститутка, «он лжет во всякое время, — этот Невский проспект» и т. д. — и страсть к деньгам Германна, прикрывающаяся ложью романтической любви к Лизавете Ивановне; и тема столкновения неравных социальных слоев — самодовольных властителей жизни и мятущихся ущемленных жертв ее, и т. д.