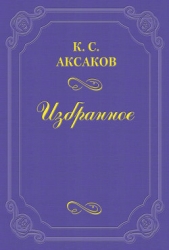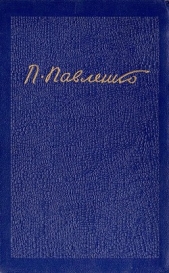Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец, мы нередко встречаемся в повествованиях XIX века с комбинированными типами композиции, промежуточными между типом обновленного романа-мемуаров и типом обновленного романа в письмах. Сущность решения данной проблемы от этого не меняется.
Разумеется, нелепо было бы думать, что между построением романа Л. Толстого и романа Ричардсона нет глубокой принципиальной разницы (как и между Флобером и Мариво). Эта разница выражена и в самом понимании героя, личности, индивидуальности. Реалисты XIX века видят в герое тип, то есть явление общественно обусловленное, повторяемое, закономерное и потому реальное и восходящее к причинам никак уж не индивидуальным. Этого нет у романистов XVIII века, несмотря на их антифеодальную тенденцию. Следовательно, у Тургенева, Гончарова, Л. Толстого и др. мир увиден глазами личности, объясненной социально. В этом выразилось противоречие критического реализма, несшего в себе и начала развивающейся социальности и непреодоленные навыки индивидуализма.
Нельзя сказать, чтобы великие русские писатели XIX века не ставили вопроса о преодолении субъективизма и принципа индивидуального восприятия в самом построении изложения, в самом образе носителя речи, в его «точке зрения» на изображаемую действительность. Такие попытки прорваться к иному, более совершенному и более демократическому решению этой проблемы делались, и делались они именно Гоголем, а затем писателями гоголевской школы, школы наиболее демократической ориентации, — Герценом, Чернышевским, Щедриным, а в поэзии — Некрасовым.
Гоголь первый стремился создать образ автора, носителя рассказа, не личный, не индивидуальный, а выступающий от имени социальной общности, в конце концов от имени народа как единства, как коллективной личности. На протяжении всего своего творческого пути, от «Вечеров на хуторе близь Диканьки» до первого тома «Мертвых душ», он стремился, сначала ощупью, затем все более осознанно, строить повествование от лица собирательного, от лица многоликого и огромного духа родины, от лица русского поэта — не личного, не индивидуального, а несущего в себе точку зрения «народности»; сам он стремился возродить эпическое воззрение на жизнь коллективного создателя фольклора (ведь «Мертвые души» — «поэма»), и он хотел описать Россию не с узкой точки зрения одного человека, а в ее целостности, охватывая единым взглядом то, что не может сразу увидеть один человек, но что может видеть и видит разом весь народ, вся нация, как он думал.
Здесь же возникал и первый набросок нового решения проблемы убедительности изображаемого. Если у других писателей XIX века читатель принуждался верить индивидуальным сообщениям свидетелей, то у Гоголя читатель не мог не верить правде изображаемого, ибо он принуждался верить самому себе; читатель, как и автор — частица народа (и человечества), и в каждом читателе, как и в авторе, — капля души народа, стихии демократической массы; и если то, что изображено в книге, увидено глазами народа, то, значит, и читателя, как сына народа. Это и значило, что «Гоголь открыл нас нам самим», как сказал об этом Тургенев. Так же и Некрасов открыл русскому демократическому читателю его душу в душе народа, так же и Герцен показал русскую революционную интеллигенцию и всю Европу глазами дворянского поколения русских революционеров. Однако все подобные попытки в России (на Западе они не делались) были обречены на неполноту, незавершенность. Гоголь попытался во втором томе «Мертвых душ» покинуть свой путь и создать роман нескольких субъективных личных характеров и аспектов, как бы предсказывая путь, ведущий к Л. Толстому.
Все сказанное выше о проблеме автора — носителя повествования и о его точке зрения — сказано здесь лишь для того, чтобы уяснить самую проблему и чтобы сделать попытку подойти к данному вопросу на конкретном примере гоголевского творчества, и в частности «Миргорода». Когда Гоголь пришел в литературу, он мог воспринять от своих предшественников и современников лишь ставшие уже до шаблонности традиционными решения данного вопроса: перед ним были старозаветные романы-мемуары, рассказы-мемуары (например, так чаще всего писал свои рассказы Сомов), либо автор-рассказчик открыто выступал на первый план в романтической манере, обусловленной художественным солипсизмом самого романтического мировоззрения. Рьяный романтик Лукьян Якубович писал в 1835 году:
Ведь это — почти то же, что у отрока Лермонтова: «В уме своем я создал мир иной». Это и есть романтическое истолкование права автора повествовать, о чем хочет, и обязанности читателя «верить» ему, или, точнее, не ставить вопроса о доверии, поскольку субъективная подлинность изображенного поэтом мира, извлеченного из его собственных души и сердца, не может подвергаться сомнению и поскольку единственная реальность искусства в таком понимании, то есть сама творящая душа поэта, будучи отражена в творении, также не нуждается в удостоверении своей реальности. В соответствии с этим, для прозы 20-30-х годов типична сказовая манера, при которой автор — мечтатель-поэт, или светский острослов-рассказчик, или иной, например какой-нибудь толстый, мудрый и прямой старик, имеющий даже имя, не совпадающее с реальным именем автора, [58] но всегда личность, индивидуальность, «роль», — как бы разговаривает с читателем и несет ответственность и за отбор фактов и за освещение их именно как данное лицо. Он делает с рассказом что хочет. Эта манера, укрепившаяся и у крупных писателей 30-х годов (она укреплена еще Карамзиным), как всегда бывает, наиболее резко выявила свою внутреннюю структуру у писателей второстепенных и третьестепенных. Какой-нибудь Степанов выявляет ее весьма четко в своем ультрареакционном романе «Тайна», романе политически подобострастном, изрядно эротическом и написанном эпигонски. Композиция этого огромного романа — смесь Стерна с Бальзаком. Автор легко и без мотивировок переходит от одного героя к другому, перескакивает через время и пространство. И все это истолковывается как проявление личного произвола автора, все время фигурирующего со своим личным сказом-стилем, своими сентенциями, болтовней, спорами с читателем; он сам сочинил весь роман, и в этом — его право. Читатель в одном месте говорит автору: «Признайтесь, однако же, что вы пишете чрезвычайно странно! Чего не наговорили вы в этой главе без толку, без связи? А разве в свете, в общем ходе вещей не так делается? Впрочем… вы слышали рассказ собранных мною новостей; вы сделали честь побеседовать со мною запросто, по-дружески. Наше от нас не уйдет: что имеет начало, будет иметь и конец. Неужели в самом деле не выпускать мне героя романа ни на минуту из вида? Помилуйте, ведь он человек: мало ли что случиться может?» То, что было топорно у Степанова, было более тонко сделано и осмыслено у Одоевского, или Погорельского, или Марлинского; но принцип оставался тем же. Изображение, как и речь, могло принадлежать только одному индивидуальному взгляду, сознанию, восприятию, должно было ограничиваться этим принципом индивидуализации. И если Достоевский сказал впоследствии, что все «герои, начиная от Сильвио… и «Героя нашего времени» до князя Волконского и Левина», — это «представители мелкого самолюбия», то это суровое обвинение в индивидуализме должно упасть прежде всего на авторов прозы 30-х годов в той мере, в которой они становились едва ли не центральными героями своих произведений.
Особое место, как и во всем, занимает здесь Пушкин. Он тоже сохраняет сказовый принцип, обычный в его время, но пользуется им своеобразно. Во-первых, он весьма скуп на проявления личного тона, особенно там, где рассказ ведется от лица автора, а не в порядке мемуаров героя (как в «Капитанской дочке»). Во-вторых, он придает рассказу характер научной достоверности, документальности, стремящейся обосновать изложение как проверенный свод данных, собранных ученым («Кирджали»). В-третьих, он сложно сталкивает разные личные аспекты действительности в композиции «Повестей Белкина», где скрещены точки зрения Белкина, барышни, офицера, чиновника, приказчика и др., рождая в совокупности сложно-объективную картину. Наконец, само пушкинское, новое и реалистическое, понимание человека, в данном случае — рассказчика, «автора», меняло существо формулы сказа; сам рассказчик (как и «я», герой лирики) стремился к объективации, к обоснованию своего образа как типического, как следствия данной исторической и социальной среды, что делало и рассказ его определенным не только его личной точкой зрения, но и типической точкой зрения эпохи и среды. Все эти пути преодоления субъективности намечались у Пушкина не вместе, а порознь, в разных произведениях, и не образовали системы, оставаясь лишь опытами и тенденциями.