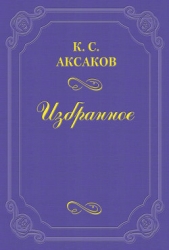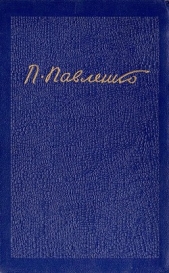Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но дело, конечно, не в этом. Современный Гоголю читатель, привыкший к тому, что в повествовании есть личный рассказчик, вовсе не совпадающий с реальным автором, читатель, к тому же еще не имевший определенного представления о том, кто такой Гоголь, впервые являвшийся ему со своим именем на обложке сборника рассказов, — и не стремился, вероятно, увидеть в рассказчике автобиографический образ автора. Но важно здесь то, что рассказчик выступает не в привычной функции личного, индивидуального носителя «точки зрения» и речи, а как обобщенный представитель идейно важного элемента повести: он — человек, живущий далеко от родной ему Украины, в Петербурге, в мире, чуждом и враждебном миру старосветских помещиков, в средоточии мира зла, противостоящем идиллическому началу, таящемуся в душах героев повести. Он является как бы представителем этого мира зла, этого ада современности, но он и Аббадонна, он оттуда, из мира зла, всей душой тянется к утраченному миру идиллии, тоскует о нем и стремится хотя бы на время вырваться из пут зла в мир идиллии.
Так и начата повесть: «Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей…» и ниже: «Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни…» — и далее: «Я отсюда вижу низенький домик…» («отсюда» — то есть издалека, и именно из того мира, о котором говорится тут же — выше); «… думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении». И далее опять, после описания красоты и покоя украинского пейзажа, окружающего старичков: «… все это для меня имеет неизъяснимую прелесть, может быть оттого, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке…». И далее — о старичках и старушках, живших в мире идиллии: «Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе среди модных фраков, и тогда вдруг на меня находит полусон и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта… что невольно отказываешься, хотя по крайней мере на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную буколическую жизнь их».
Через три страницы опять — по поводу пения дверей в доме у старичков: «Я знаю, что многим очень не нравится сей звук; но я его очень люблю, и если мне случится иногда здесь услышать скрып дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею…», и далее удивительно поэтичная картина сельской идиллии и концовка: «… и, боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!» — опять тоска по родной райской стране — в аду, в этом здесь, откуда он тянется к милым воспоминаниям. И затем эта нота звучит во всей повести: «Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом… Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению, потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то, без сомнения, вместо постели, очутился бы лежащим на столе» (видимо, оплошал и в этом человек здесь, в Петербурге); или: «Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович согнувшись сидит на стуле…» — то есть вижу из другого мира, из того самого, в котором рассказчик («я») «знал одного человека в цвете юных еще сил», героя романтической страсти; «… год после этого я видел его в одном многолюдном зале…» — конечно, в Петербурге, в «свете», и, приехав оттуда, рассказчик («я») «заехал в хуторок Афанасия Ивановича» уже в последний раз.
Следовательно, сам образ рассказчика становится еще одним откликом всей идейной композиции повести: и в его душе таится неистребимая жажда красоты, человечности, доброты, светлого мира благостной жизни в природе (мира «руссоистского», пассивного, утопически неподвижного), но и он отравлен злом современной цивилизации, опутан той злой жизнью, которая воплощена для Гоголя в городе, столице, Петербурге (в «Тарасе Бульбе» — Варшаве). Но в нем, в рассказчике, явна непобедимость начала добра в человеке, и она-то и создала всю повесть об украинских Филемоне и Бавкиде, мечту о рае в окружении ада и мечту об ангеле в человеке, ставшем чертом.
Тем самым новый смысл приобретает образ рассказчика, уже не просто личности, индивидуальности, а как бы всякого человека того же мира. Это «я» — как бы в душе каждого читателя, который, если он не совсем потерял облик человеческий, тоже ведь, живя в Петербурге или Москве, где-то в тайниках души несет искру блага; и ведь задача Гоголя именно в том, чтобы раздуть эту искру, возмутить ключи душевной тоски, вернуть человека к неискаженной правде его самого. Значит, лирическая тема рассказчика здесь — тема и читателя, тема человека современной Гоголю дурной цивилизации, тема гоголевского утопизма и морализма, призванного разрешить самые больные и, конечно, социальные вопросы его современности. А это значит, что Гоголь стремится покинуть восприятие мира с точки зрения только замкнутой индивидуальности человека, восприятие, рождавшее «сказ» и облик личного рассказчика в литературе тех лет, что он стремится расширить сказовый облик рассказчика до — пусть зыбкого и неопределенного — образа души современного человека вообще; это — душа человека «верхов», ибо она принадлежит миру зла, который и есть мир «верхов», но она несет в себе и первородное благо народного начала, заложенного, по Гоголю, в каждом, кто не совсем презрел это начало.
Отсюда и то, что «я» в «Старосветских помещиках» — все время неопределенное, открытое почти любым воображаемым конкретизациям в вероятном кругу читателей Гоголя, каждый из которых может по-своему дорисовать внутренний образ этого «я», становящегося и частицей его, читательского «я». Отсюда и приведенный выше возглас: «и, боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний!» — и здесь речь обрывается, а какая же именно вереница и каких именно воспоминаний, об этом не сказано ни слова, и всю эту длинную вереницу воспоминаний читатель как бы приглашается воссоздать сам. Разумеется, здесь есть использование опыта стилистики Жуковского (и его школы и, может быть, любомудров); но это совсем уже не романтизм, так как и личное здесь стремится стать общим, и субъективизм уступил место объективному миру общественного бытия, и индивидуализм здесь отпал, и «суггестивность» обоснована не культом индивидуального, из коего нет, мол, пути вовне его, а, наоборот, чувством и идеей общности, единства душевной жизни множества личностей в единстве народного идеала.
И вот откуда неопределенность личного тона таких возгласов, как «Добрые старички! но повествование мое приближается…» или «Бедная старушка! она в то время не думала…» Кто, собственно, это восклицает? Кажется, и автор, и рассказчик, и читатель вместе с ним, и как бы вообще человечность человеческая, то есть «нормальное» восприятие человека, на минуту свергнувшего с себя всяческую ложь и искусственные порождения злого века и вернувшегося к началам народной правды (по Гоголю).
Это-то стремление к обобщению образа рассказчика, стремление еще нетвердое, впервые намечающееся и, видимо, оформляющееся, так сказать, ощупью, приводит к тому, что «сказовые» формы могут появиться в повести и там, где явно не может предполагаться «точка зрения» физического лица рассказчика. Так, когда Пульхерия Ивановна беседует с Афанасием Ивановичем перед смертью, «на лице ее выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно». Кто этот «я» здесь? Автор-рассказчик, конечно. Но откуда же он знает, каково было выражение лица милой старушки в этот момент? Неужели же — со слов рыдавшего, как ребенок, Афанасия Ивановича или Явдохи? И кто этот «кто-нибудь», который не мог бы равнодушно глядеть на эту сцену? Очевидно, сказовая форма («я не знаю») здесь имеет не обычную свою функцию персонификации носителя речи, рассказчика, а отчасти, наоборот, создание некоего обобщенного представления об этом носителе речи, становящемся чем-то бо́льшим, чем личность. (Приходится говорить здесь все время «некоего», «чем-то» и т. п., потому что перед нами — лишь первые шаги по данному пути.)