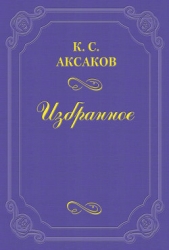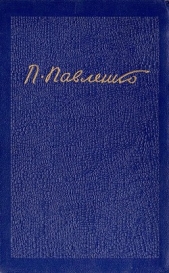Реализм Гоголя

Реализм Гоголя читать книгу онлайн
Книга «Реализм Гоголя» создавалась Г. А. Гуковским в 1946–1949 годах. Работа над нею не была завершена покойным автором. В частности, из задуманной большой главы или даже отдельного тома о «Мертвых душах» написан лишь вводный раздел.
Настоящая книга должна была, по замыслу Г. А. Гуковского, явиться частью его большого, рассчитанного на несколько томов, труда, посвященного развитию реалистического стиля в русской литературе XIX–XX веков. Она продолжает написанные им ранее работы о Пушкине («Пушкин и русские романтики», Саратов, 1946, и «Пушкин и проблемы реалистического стиля», М., Гослитиздат, 1957). За нею должна была последовать работа о Льве Толстом.
http://rulitera.narod.ru
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Метафизическое порывание за пределы действительности à la романтизм начала века — меньше всего имеет касательство к рассказу Гоголя. Здесь, в «Вие», речь идет о том, чтобы под покровом пошлости найти высокое зерно человека, обнаружить легенду внутри самой действительности, задавившей легенду «земностью». На этом строится совершенно новое и недоступное пониманию романтиков-идеалистов, воспитанных на поэзии в духе Жуковского, соотношение «поэзии» и «прозы» в рисунке «Вия». Конечно, именно поэтому «Вия» совершенно не понял Шевырев, который не мог не понять образного построения романтического типа, близкого ему, но который стал в тупик перед гоголевским сочетанием двух стихий в «Вие». Повесть вообще не понравилась Шевыреву, и он пишет: «В начале этой повести находится живая картина киевской бурсы и кочевой жизни бурсаков; но эта занимательная и яркая картина своею существенностью [т. е. реальностью] как-то не гармонирует с фантастическим содержанием продолжения». [56]
Не ясно ли, что, не поняв глубокой «гармонии» мысли, заключенной именно в этой дисгармонии, Шевырев не уразумел самой сути «Вия»? Между тем достаточно, кажется, обратить внимание хотя бы на имя героя этой повести, вспомнив, что имена у Гоголя всегда семантически значительны, чтобы увидеть, что в нем, в его «существенности», сведены в единстве и столкновении обе стихии, образующие повесть; в самом деле, Хома Брут — это ведь как бы лексический парадокс, сталкивающий противоположное: с одной стороны, бытовое, весьма «прозаическое» Хома (не Фома, а по-народному, по-украински — Хома) — и Брут — высокогероическое имя — символ подвига свободы, возвышенной легенды («В них не найдут ни Брута, ни Риеги», или: «Он в Риме был бы Брут… », или: «Но Брут восстал вольнолюбивый», или: «Вот Кесарь — где же Брут?»). Любопытно, что Гоголь подчеркнул это столкновение несовместимых элементов тем, что рядом с именем Хома Брут поставил другое имя, дающее такое же со- и противопоставление элементов, но в обратном порядке и с пародийным оттенком: Тиберий Горобець (имя младшего спутника Хомы Брута); здесь древний Рим звучит в имени, а «проза» быта — в прозвище (Горобець значит Воробей); но вместо героя свободы (Брут) — имя тирана Тиберия. Некоторым отзвуком этого же столкновения элементов звучит и обозначение третьего бурсака: «богослов Халява»; богослов, как ни говори, звучит серьезно и не без торжественности; ну а Халява ведь значит либо сапожное голенище, либо пасть, хайло, либо неряха и дрянь-человек, либо даже непотребная женщина (все эти значения слова дает Даль).
В тексте «Вия» — точнее, в рукописном тексте его, не попавшем в печать при жизни Гоголя, — есть одно место, которое может помочь уточнить вопрос об оценке Гоголем обоих аспектов действительности, сомкнутых в истории Хомы Брута. В самом деле, казалось бы, «дневной», обыденный Хома весел, живет в свое удовольствие, и окружает его устойчивая, вкусная, уютная жизнь; наоборот, «ночная» жизнь Брута полна таинственных видений, ужаса, черных сил — и, наконец, приносит герою гибель.
Между тем такова лишь внешняя, иллюзорная оценка обоих этих аспектов бытия, оценка не Гоголя, а Хомы и его окружения, оценка, привычная для мира, плотно задавившего своей «земностью» высокое в человеке. И эту-то оценку разрушает Гоголь. Пусть жизнь Хомы весела, но это низменная жизнь «земности», это — холопство и скотство прежде всего. Пусть легенда, ворвавшаяся в жизнь бурсака и перевернувшая ее, мрачна, — она сверкает светом подлинно могучего существования. Она мрачна именно потому, что мрачна повесть об униженном достоинстве человека, потому что зло торжествует в мире, хотя и не может убить в нем добра. Когда сотник привел Хому в горницу, где лежало тело его дочери, — еще днем и в панском доме, а не в церкви, — бурсак взглянул на умершую; он увидел красавицу, но «в тех же самых чертах он видел что-то страшно-пронзительное. Он чувствовал, что душа его начинала как-то болезненно ныть, как будто бы вдруг среди вихря веселья и закружившейся толпы запел кто-нибудь песню об угнетенном народе».
Во всей повести это единственное место, где хотя бы мимолетно говорится о делах реальной социально-политической жизни, место в этом смысле неожиданное. Между тем оно не лишено существенной важности. Оно появляется в решающем, поворотном пункте рассказа, на переломе от преобладания «дневного» аспекта к «ночному», непосредственно перед началом основного мотива легенды — троекратного борения человека с темной силой. И оно мгновенно, но резко окрашивает это центральное место повести трагической мыслью «об угнетенном народе» (заметим торжественность и как бы «некрасовский» склад самих этих слов). А ведь эта возникшая из толпы трагическая песнь подрывает вихрь веселья, подобно тому как трагическая легенда подрывает веселость похождений Хомы у булочницы и т. п. («Хома Брут был нрава веселого…»)
Мы бы не имели права — так сказать, методического права — придавать столь далеко идущее значение единичной фразе, брошенной в тексте повести, одному красочному пятну, почти раздражающе вторгшемуся в иную цветовую среду, если бы на такое толкование не уполномочивала нас сама манера Гоголя-художника. В самом деле, мы уже имели случаи убедиться при разборе повестей «Миргорода» и даже еще «Вечеров на хуторе» и мы сможем еще более отчетливо увидеть, рассматривая «Мертвые души», что Гоголь раскрывает глубокую идейную тему своего произведения не только и не столько в последовательности некой сюжетной дедукции, не столько в линейной вытянутости сюжетных посылок и выводов-следствий, как мы привыкли видеть это у романистов второй половины XIX столетия, сколько путем группировки деталей, сопоставления штрихов, дающих в совокупности единую и единовременно запечатлеваемую в сознании читателя картину.
Искусство Гоголя в этом отношении скорее походит на живопись, чем на музыку (разумеется, подобные сближения — это только метафора). Сущность Рудина в значительной мере раскрывается именно в последовательности логически сцепленных между собою событий, вплоть до его уклонения от действия в решающую минуту его отношений с Натальей. Цепь событий, влекущих Обломова от детства в Обломовке к полному падению у вдовы Пшеницыной, — последовательна, логична, причинно-следственна, и в ней — суть романа. Но мы мало что извлечем из «Мертвых душ», если будем многозначительно умозаключать что-либо из последовательности событий — сначала, мол, Манилов, потом Коробочка и другие как бы повторяющиеся эпизоды. И мы мало уразумеем смысл «Тараса Бульбы» из логики последовательности битв (пожалуй, и логики особой здесь нет, а последовательность эту читатель легко забывает). Но весь блеск гениальной мысли Гоголя открывается перед читателем, следящим, как Гоголь кладет одну к другой краски, детали, штрихи, выстраивая в сложные и выразительные соотношения-рисунки черты действительности, охваченной как бы разом, единым взглядом.
Понятно, что в такой системе искусства даже отдельный штрих, если он резок и контрастно бросается в глаза, если он при этом поставлен в заметном месте произведения, — играет существенную идейную роль. И мысль об угнетенном народе, о поэзии народа, о силах блага и зла, борющихся в жизни, мысль о трагическом, серьезном, высоком, скорбно окрашенная мыслью о рабстве, губящем все высокое, должна прозвучать в «Вие» как высокое утверждение легенды, выражающей сущность человека, над ничтожной «земностью» рынка, бурсы и кабака, искажающей человека. Недаром ведь Гоголь счел нужным подчеркнуть в примечании к названию «Вия», что «вся эта повесть есть народное предание»; значит, в представлении Гоголя и в его изложении, легенда «Вия» — это высокое! Не вина Гоголя, если приведенный образ — «запел кто-нибудь песню об угнетенном народе» — не смог появиться в печати при его жизни; тогда, да и до самого последнего времени, это место печаталось так: «… запел кто-нибудь песню похоронную». Между тем вариант рукописи («об угнетенном народе») был приведен еще Н. С. Тихонравовым в примечаниях к его классическому изданию (М., 1889, т. I, стр. 696). Однако в основной текст «Вия» этот вариант, совершенно правильно признанный наиболее авторитетным, введен лишь академическим изданием Гоголя (т. II, 1937, редактор текста «Вия» — Б. М. Эйхенбаум), редакция которого признала замену («похоронную») цензурной.