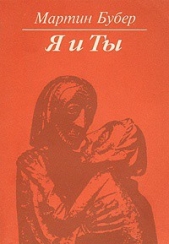От слов к телу

От слов к телу читать книгу онлайн
Сборник приурочен к 60-летию Юрия Гаврииловича Цивьяна, киноведа, профессора Чикагского университета, чьи работы уже оказали заметное влияние на ход развития российской литературоведческой мысли и впредь могут быть рекомендованы в списки обязательного чтения современного филолога.
Поэтому и среди авторов сборника наряду с российскими и зарубежными историками кино и театра — видные литературоведы, исследования которых охватывают круг имен от Пушкина до Набокова, от Эдгара По до Вальтера Беньямина, от Гоголя до Твардовского. Многие статьи посвящены тематике жеста и движения в искусстве, разрабатываемой в новейших работах юбиляра.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Совокупность улик и ассоциаций позволяет думать, что история венецианского художника могла быть одной из «фундирующих реальностей» (термин Ю. И. Левина) «Египетской марки». Отдельные элементы этой реальности отражаются в фабуле так, что «присущие исходному материалу свойства и отношения <…> не снимаются, но сохраняются, обогащаясь новыми, выходящими за пределы логики здравого смысла чертами» [447]. Роль фабульного, «взятого из жизни» материала у Мандельштама, как метко подметил Левин, сводится к роли строительных лесов, «которые убираются после возведения постройки» [448]. В нашем случае механизм демонтажа лесов хорошо заметен при обращении к черновикам: вспомним исчезнувшие из окончательного текста повести сопоставление Юдифи Джорджоне с дамой Парнока, горбатый мост и чуму.
Возможно, упоминания Джорджоне работают и на метатекстуальном уровне, «подсвечивая» некоторые конструктивные особенности мандельштамовской прозы. Вспомним III главу, заканчивающуюся упоминанием «Концерта», краткость которой позволяет процитировать ее почти целиком:
— Николай Александрович, отец Бруни! — окликнул Парнок безбородого священника-костромича, видимо еще не привыкшего к рясе и державшего в руке пахучий пакетик с размолотым жареным кофе. — Отец Николай Александрович, проводите меня!
Он потянул священника за широкий люстриновый рукав и повел его, как кораблик. Говорить с отцом Бруни было трудно. Парнок считал его в некотором роде дамой. <…>
Девушки застыдились отца Бруни; молодой отец Бруни застыдился батистовых мелочей, а Парнок, прикрываясь авторитетом отделенной от государства церкви, препирался с хозяйкой.
То было страшное время: портные отбирали визитки, а прачки глумились над молодыми людьми, потерявшими записку.
Жареный мокко и в мешочке отца Бруни щекотал ноздри разъяренной матроны.
Они углубились в горячее облако прачечной, где шесть щебечущих девушек плоили, катали и гладили. Набрав в рот воды, эти лукавые серафимы прыскали ею на зефирный и батистовый вздор. Они куролесили зверски тяжелыми утюгами, ни на минуту не переставая болтать. Водевильные мелочи разбросанной пеной по длинным столам ждали очереди. <…>
Парнок узнал свою рубашку: она лежала на полке, сверкая пикейной грудкой, разутюженная, наглотавшаяся булавок, вся в тонкую полоску цвета спелой вишни.
— Чья это, девушки?
— Ротмистра Кржижановского, — ответили девушки лживым, бессовестным хором.
— Батюшка, — обратилась хозяйка к священнику, который стоял, как власть имущий, в сытом тумане прачечной, и пар осаждался на его рясу, как на домашнюю вешалку. — Батюшка, если вы знаете этого молодого человека, то повлияйте на них! Я даже в Варшаве такого не видала. Они мне всегда приносят спешку, но чтобы они провалились со своей спешкой… Лезут ночью с заднего хода, словно я ксендз или акушерка… Я не варьятка, чтобы отдавать им белье ротмистра Кржижановского. То не жандарм, а настоящий поручик. Тот господин и скрывался всего три дня, а потом солдаты сами выбрали его в полковой комитет, на руках теперь носят!
На это ничего нельзя было возразить, и отец Бруни умоляюще посмотрел на Парнока.
И я бы роздал девушкам вместо утюгов скрипки Страдивария, легкие, как скворешни, и дал бы им по длинному свитку рукописных нот. Все это вместе просится на плафон. Ряса в облаках пара сойдет за сутану дирижирующего аббата. Шесть круглых ртов раскроются не дырками бубликов с Петербургской стороны, а удивленными кружочками «Концерта в Палаццо Питти».
Хотя в начале XX в. большинство искусствоведов согласилось считать «Концерт» работой Тициана [449], в сознании человека той эпохи эта картина прочно ассоциировалась с очерком Патера «Школа Джорджоне», целиком построенным на ее разборе:
Концерт в палаццо Питти, где монах в рясе и тонзуре прикасается к клавишам клавикорда, между тем как служка, стоящий за ним, хватает ножку кубка, а третий, в берете с пером, словно ждет удобного момента, чтобы запеть, несомненно, принадлежит Джорджоне. Контуры поднятого пальца, перо на шляпе, даже нити тонкого полотна все еще всплывают в памяти, прежде чем раствориться в золотом, почти небесно-спокойном сиянии краски; искусство, уловившее дрожащие звуковые волны и навсегда припечатавшее их к губам и рукам, — все это, действительно, характерно для нашего мастера, и критика, отметая многие произведения, до того приписывавшиеся Джорджоне, утвердила законность притязаний этой единственной картины и навсегда сохранила ее как драгоценнейшую реликвию мира искусства [450].
Вспомним основные заслуга Джорджоне в глазах Патера. Английский искусствовед утверждал, что венецианец стал первым писать картины без определенного сюжета:
Он — изобретатель жанра, этих легко передвигаемых картин, не предназначенных для целей аллегорического либо исторического назидания: небольшие группы реальных мужчин и женщин в соответственной обстановке или на ландшафте; кусочки действительной жизни, игра, музыка или беседа, но облагороженная или утонченная, словно мы созерцаем эту жизнь издалека. Эти пятна искусно смешанных красок, до сих пор послушно занимавшие свое место в архитектурной схеме, Джорджоне отделяет от стены [и] <…> оправляет их в рамки [451].
Живопись Джорджоне сродни «высшей романтической поэзии», поскольку она
дает нам глубоко значительные и одухотворенные моменты, какой-нибудь жест, взгляд, улыбку — краткое, но вполне конкретное мгновенье, в котором, однако, словно в фокусе, слились все мотивы, интересы и влияния долгой истории и которое словно растворяет прошлое и будущее в жгучем сознании настоящего [452].
Его картины обладают синэстетическим эффектом, воздействуя через воображение на разные органы чувств: «словно живое существо, картина вступает в нашу комнату, чтобы наполнить ее изысканным ароматом» [453]. Поскольку высшим искусством для Патера была музыка, главным достижением Джорджоне он считал «музыкальность», привитую тем венецианской живописи:
В выборе сюжета, как и во всем, впрочем, Концерт в палаццо Питти типичен для всего, что Джорджоне, сам превосходный музыкант, запечатлел своим влиянием. <…> Дня <…> школы Джорджоне самая жизнь становится каким-то слушаньем — прислушиванием к музыке, к чтению новелл Банделло, к звуку бегущей воды, к полету времени [454]. <…> подобные моменты часто бывают для нас моментами игры, и мы даже изумляемся неожиданному блаженству самых ничтожных по-видимому мгновений <…> школа Джорджоне часто ведет нас от музыки к игре, подобной музыке, — к тем маскарадам, в которых взрослые, подобно «представляющимся» детям, лишь играют в подлинную жизнь, нарядившись в причудливые старо-итальянские костюмы <…> [455].
Общая концепция творчества Джорджоне, предложенная Патером, сохранила авторитет даже после переатрибуции «Концерта». В частности, Муратов, будучи сторонником авторства Тициана, тем не менее с почтением ссылался на очерк Патера и развивал его основные положения — о бессюжетности и музыкальности школы Джорджоне, об отказе от «эпического спокойствия» ради «лирических колебаний», о синэстетическом эффекте оживающих картин [456].