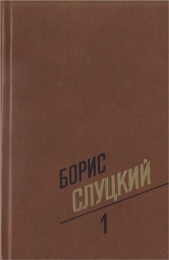Борис Слуцкий: воспоминания современников

Борис Слуцкий: воспоминания современников читать книгу онлайн
Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.
О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.
Для широкого круга читателей.
Второе издание
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Стихи эти написаны в предпоследний календарный год кровавого сталинского разгула. В марте следующего, 1953 года у многих появилась вера в скорые перемены к лучшему. Литературную судьбу Слуцкого год смерти «бога в хромовых сапогах» повернул со знаменательной незамедлительностью. Именно в этом году уже в августе, поэт, наконец, вышел на публику, напечатался по сути впервые: ведь одна предвоенная публикация, да и та в подборке, рядом со стихами других студентов, и забылась, и вообще принадлежала как бы другой эпохе, автору с совсем иным жизненным опытом. Стихотворение «Памятник», вышедшее внушительным тиражом, в большой газете, заявило всем, кого это касалось, что существует еще один настоящий, ни на кого не похожий поэт.
Нелепо думать, будто «песок» стал для него снова «скалой», как ни в чем не бывало, догматиком он, повторяю, не был, но ощущение, что песок перестал «плыть под ногами», «уходить из-под ног», надо полагать, появилось. «Эпоха зрелищ кончена. Пришла эпоха хлеба». В этом его афоризме той поры слышалась какая-то удовлетворенность, умиротворенность. Мог ли он, могли ли мы все тогда оценить значение следа, оставленного в душах «эпохой зрелищ», понять, насколько затяжной характер носит простуда, после того как мир был «просквожен и продут бурей страха»? И «эпоха зрелищ», и эта простуда оказались куда более живучими, чем думалось, и пастернаковская история была тому ясным свидетельством, но она-то произошла еще сравнительно скоро после смерти «бога», жутковатых «зрелищ» хватало и много позднее. Впрочем, «эпоха хлеба» действительно наступила, но она как-то не торопилась и впрямь покончить с предшествовавшей, она как-то уживалась с ней, да и сама не отличалась благообразием. «Социализм был выстроен, поселим в нем людей», — заканчивал Слуцкий то стихотворение, откуда пошел гулять афоризм о смене эпох. «Эпоха хлеба», вскармливавшая и раскармливавшая всесильную чиновную братию, вовсе, оказывалось, не спешила поселить в социализме людей.
Для того напряжения между личностью поэта и его обществом, благодаря которому возникает электрическая энергия поэзии, генераторы и в «эпоху хлеба» отнюдь не переставали работать.
Выше я говорил о противоречии между его поэтикой и представлением о «поэтичном» обыкновенных людей, читающей массы. Но при всем соответствии его поэтики, его творческой манеры сурово подчеркнутой прямоте Слуцкого в разговоре, его непритязательности в быту, его органической нелюбви ко всяческим излишествам и прикрасам — существовало, мне кажется, и напряжение внутреннее, глубинное противоречие между этой поэтической формой и сложностью душевного уклада, его редкостной чуткостью к нюансам политики, языка, человеческих отношений, его недюжинной начитанностью. Поэт от природы, Слуцкий не выбирал этой формы, нет, она выбрала его, пожелала получить именно в нем свое воплощение и тем самым обрекла быть резким, прямолинейным, поступаться в своих оценках оттенками, представлять вещи проще, чем они есть. А это конфликт с собой и опять-таки со средой, это дополнительная тяжесть времени, создаваемая природой дара.
Как характерно здесь слово «ошибочка»! Как не соответствует оно своей простецкостью, своей преуменьшающей полушутливостью, своей далекостью от всякого пафоса библейской образности предшествующих строк! Это не та холодноватая сдержанность в суждении, которая называется у англичан understatement, а какая-то, наоборот, теплая уютность, хотя в то же время и явное желание поставить точку, не распространяться далее, свести высказывание о случившемся к примирительному: «Ну что ж, бывает, дело житейское». Это не интеллигентская ирония, не подмигиванье, а упрощение, идущее от привычки и потребности смотреть на вещи глазами массы, говорить ее языком и от ее имени.
Упрощение и простота — слова одного корня. Ради того, чтобы говорить просто, прямо, доходчиво, он отказывался в стихах от всякой рефлексии и то, что выливалось в зрительные образы, метафоры, картинные афоризмы, выражал расхожими словами, даже просторечиями. Так выходило у него само собой, другого поэтического языка у него не было, и, наделив его, при его чувствительности к тончайшему оттенку мысли, при его аналитическом, склонном к поправке и оговорке уме, даром выражать себя в стихах только так, судьба наделила его и беспощадностью к себе, способностью смотреть на вещи прежде всего глазами массы, даже массы темной, косной, обманутой.
Все это — и прямолинейность, и простецкость, и конфликт со средой, и беспощадность к себе, и боль вмещающей в себя все это души — очень явственно выразилось в стихах, где он касался еврейской темы. Тема эта всегда была болезненной, деликатной, в поэзии ее чаще всего избегают, обходят. Пастернак затронул ее в стихах начала тридцатых годов — затронул мимоходом, намеком, как бы на секунду высветив лучом, но не задерживаясь, не пускаясь вглубь вопроса о зависимости широкого признания писателя от его укорененности в почве. Вопрос этот, как показывает одно из его писем к Ариадне Эфрон, волновал Пастернака и в последние годы жизни.
Я привожу эти строчки, разумеется, не затем, чтобы поставить Слуцкого выше Пастернака — надеюсь, такого нелепого подозрения не возникнет, — а потому что, может быть, как раз в сравнении с этой перифразой, приглашающей сначала понять ее смысл, а потом задуматься над ним, согласиться или не согласиться, как раз по контрасту с ее цивилизованностью, камерностью ясно видна простейшая прямота Слуцкого. «Евреи хлеба не сеют, евреи раньше лысеют» — и так далее, вплоть до заключительной строфы:
Он начал и кончил это стихотворение прямой речью, цитатой, не от первого лица, а словами, подхваченными где-то в толпе, в очереди, в вагонной давке. Первое лицо, его «ношу в себе, как заразу, эту проклятую расу», словно бы отступает на второй план, собственный голос поэта слышен лишь как фон тупой брани. А среди найденных после его смерти стихов и набросков есть строки о крестившихся евреях, присловья, записанные тоже как бы с голоса массы: «жид крещеный — что вор прощеный», «жид крещеный — конь леченый». Опять взгляд извне, опять ирония, опять простоватая прямота. Все это очень напоминает мне насмешливую снисходительность, не злую, а именно насмешливую, веселую (мол, бедный ты, бедный, на чем свихнулся), с какой он говорил об одном бесцветном стихотворце, известном в основном своим юдофобством. Но за такой литературной интонацией, совершенно так же, как за этим насмешливо-снисходительным тоном отзыва о знакомом антисемите, пряталась, какие тут могут быть сомнения, самая настоящая боль. Нужен, как теперь говорят, большой потенциал благодушия или лицемерия, чтобы не почувствовать в стихах и на эту тему все того же конфликта между личностью поэта и современным ему обществом.
С древнейших времен люди верили, что поэты — пророки, что они обладают даром предвидения. На похоронах Слуцкого многим приходили на ум его стихи о «перепохоронах Хлебникова». Строчками со словами «стынь, ледынь и холодынь» он и вправду предвосхитил погоду собственных похорон. Но подтверждением его провидческой правоты показалось мне тогда не это внешнее совпадение. Я вспоминал тогда об его обыкновении ходить на гражданские панихиды по писателям из-за частого соответствия последнего пути умершего его жизненному пути и думал, что в этих похоронах все как раз отвечало отметкам жизни. «Широко известного в узких кругах» провожала большая толпа, в ней было много пишущих, много друзей и знакомых, но мало просто читателей. В доме литераторов готовились к какому-то очередному «зрелищу», поэтому там места не выделили, и панихида состоялась сначала в морге 71-й больницы на Минском шоссе, затем в крематории-новостройке. Речей было много, все, как один, говорили искренне, честно, просто, без казенщины, без фальши, без патетических преувеличений.