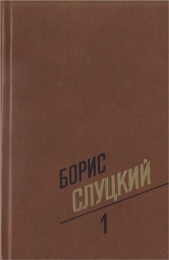Борис Слуцкий: воспоминания современников

Борис Слуцкий: воспоминания современников читать книгу онлайн
Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.
О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.
Для широкого круга читателей.
Второе издание
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Летом того же 1962 года в одном из залов ресторана «Прага» отмечалось пятидесятилетие моего друга, ученого-экономиста Я. А. Кронрода, ныне забытого. На вечере присутствовали многие из знаменитых его коллег того времени и два моих знакомых поэта — Д. Самойлов и Б. Слуцкий. Мы сидели в конце стола; хорошо помню, как Самойлов сказал вполголоса: вы думаете, что Слуцкий умный, а я талантливый, на самом деле он талантливый, а я — умный. В тот вечер я впервые узнал, что Слуцкий давно знаком с Кронродом. С тех пор наша дружба стала общей, и иногда мы встречались у меня дома. Мы были люди разных поколений и разных занятий. Я встретил войну зрелым 35-летним человеком, Кронрод был на шесть лет меня моложе, а Слуцкий пошел на войну совсем еще юным, в 22 года. Война — великая уравнительница, хотя на долю Слуцкого выпали гораздо большие испытания, он был израненный солдат и по праву стал одним из основателей нашей фронтовой поэзии. Но при всем резком различии в возрасте, мы все были сыновьями нашего века и война стала нашей общей судьбой. У Слуцкого в сборнике «Современные истории» есть стихи, озаглавленные «Двадцатый век»:
«В этом веке все мои вехи, // все, что выстроил и сломал… Век двадцатый! Рабочее место! // Мой станок! Мой письменный стол! // Мни меня! Я твое тесто! // Бей меня! Я твой стон».
Слишком много восклицательных знаков, но суть схвачена. Слуцкий был стоном века, Кронрод — его истолкователем…
Я читал его книги и, несмотря на их специфичность и мою неподготовленность, чувствовал самостоятельность автора. Но, как мне кажется, в них был и момент тактики. Кронрод не мог подняться над прочно установленными догмами. Да это и было невозможно. Вот почему он, человек мыслящий и рассуждающий, свободный от опеки, от давления охранителей, был много интереснее и глубже, чем человек пишущий и подотчетный. А таким, нестесненным, мы его видели во встречах со Слуцким. Там он был самим собой, таким, как он есть — с присущим ему размахом мысли. Тогда, в период губительной инерции удручающего чинопочитания и возрождения идеи верхов и низов, хозяев и винтиков, он понял, с какой стремительностью мы движемся к всеобщему тупику и кризису. В суждениях Кронрода была система, и его заразительная тревога не могла не задеть Слуцкого. Конечно, у него было множество друзей и знакомых, на недостаток информации он не мог жаловаться. Но во всезнании Кронрода было что-то трагическое, и в некоторых стихах Слуцкого я как бы слышу отклик на наши исповедальные беседы.
В неистовом собирательстве, я бы даже сказал жестче, коллекционерстве человеческих судеб Слуцкий не мог пройти мимо во всех смыслах неординарного и неповторимого Е. А. Гнедина. Они были знакомы еще до того, как в конце шестидесятых годов встретились у меня в доме. Слуцкий не скрывал настоятельной потребности послушать его, сблизиться с ним. Чем был ему близок Гнедин? Евгений Александрович боролся за свою идею правды и правоты по внутренней необходимости, в его взглядах не было ни тени фанатизма, он не чувствовал себя героем, борцом Сопротивления. Одну из наших нечастых встреч я хорошо запомнил. Шел 1968 год. Мы говорили о студенческих волнениях во Франции. Эта тема была у всех на устах. Основная масса этих бунтующих студентов, сгоняющих своих профессоров с кафедр, по мнению Гнедина, мучительно ищет истину в мире, отравленном ядом конформизма и потребительства. Все они знают, что надо разрушить, и не знают, что надо предложить взамен руин. И особенно запомнилось в словах нашего собеседника: не надо драматизировать эти события, в них есть закономерность истории, но они не несут исторических перемен. В политической хронике шестидесятых годов они займут одну строчку. Молодые люди со временем образумятся, угомонятся, кое-кто вернется в университеты, другие займутся делами, обзаведутся семьями. Всё войдет в давно проложенное русло. В этот момент в разговор вмешался Слуцкий. Он произнес монолог о том, как у нас держат в узде историю уже очень много лет. В стихах у него есть строчки:
Нет, с историей у нас совсем плохо. Проделайте такой эксперимент. Возьмите энциклопедические словари, вышедшие в разные годы. Самый первый, наиболее полный (где вы найдете еще не запятнанные имена Бухарина и Рыкова), который пошел в переработку, как бумажный утиль. Или Малую энциклопедию 30-х годов, наспех переписанную, с зияющими провалами и спасительными умолчаниями. И, наконец, пятидесятитомную, вышедшую в разгар культа Сталина, своего рода памятник узаконенной тогда лжи и фальсификации. Сравните эти издания и вы поймете, что такое подмена понятий в истории. Есть эпохи, — рассуждал Слуцкий, — итогов, надежные и стабильные, когда на сцене появляется статистика и неоспоримые факты справочной литературы. И есть эпохи крайней неустойчивости и фабрикации фактов по сиюминутному требованию всесильного редактора, божества в мягких сапогах. Время, которое мы прожили, трудно укладывается в рамки энциклопедии с ее окончательными суждениями. Тем важнее непредвзятые показания очевидцев. Этому стоит посвятить жизнь. Напомню, все это говорилось в конце 60-х годов. <…>
Слуцкий, как-то зашедший ко мне, застал Савича и засыпал его вопросами. Речь о войне в Испании. Слуцкий, со слов Эренбурга, несомненно, знал все перипетии испанской войны, но общий итог у него не складывался. Была в летописи тех лет какая-то несогласованность.
Слуцкий задал Савичу вопрос, ради которого он, видимо, и затеял диалог: «Как вы думаете, был ли Сталин заинтересован в победе испанской республики?» — «Откуда у вас такие сомнения?» — заинтересовался Савич. Слуцкий ответил, что недавно сведущие люди изложили ему такую версию — для Сталина Испания была удобным полигоном, где проходили проверку наши военные. Репетиция нашей готовности. А идти дальше Сталин не хотел, так как, но его логике, победа республиканцев могла приблизить войну. Чего он опасался… Смелость вопросов Слуцкого застала нас врасплох. Он забежал на несколько десятилетий вперед. Может быть, теперь пришел час ответов.
Последний в ряду наших собеседников, о котором я хотел бы упомянуть, — А. М. Марьямов. В то время он был членом редколлегии «Нового мира» и вел там отдел публицистики!
В середине двадцатых годов у Марьямова установились тесные отношения со многими деятелями украинской литературы. К тому времени она разветвилась, развилась, появились новые привлекавшие внимание имена, несмотря на острые противоречия и борьбу как политических, так и художественных ориентаций.
И сколько было среди них пострадавших от чисток и репрессий!
«Как вы думаете, — спросил Слуцкий Марьямова, — какой процент этих уничтоженных карающей рукой власти составляли люди ни в чем не виноватые?» — «Безусловно, очень большой, хотя на волне революции к нашему берегу пристали и агрессивные самостийники, и вчерашние петлюровцы, и шовинисты — враги русской культуры и всякой причастности к ней. И все же теперь, спокойно оглядываясь на прошлое, приходишь к выводу, что преступники и заговорщики были в явном меньшинстве и что меч правосудия сносил головы скопом, явно пренебрегая справедливостью и законом».
Все названные здесь участники бесед были люди с яркой выраженной индивидуальностью, с определившимся призванием, но у всех у них не было простора для развития. Была осознанная, а иногда и неосознанная стесненность, было мучительное чувство неполноты выражения, невысказанности, вынужденного молчания. И никто из них не сделал того, что мог. После потрясений 1949 года Гурвич уже не мог оправиться. О Кронроде уместно сказать словами Слуцкого: «прогнозисты не смели пророчить». Лучшие годы Гнедина были загублены. Писательский талант Савича был задушен в самом зародыше. Марьямов занимался журналистикой и редактурой и писал случайные книги, несмотря на свое художественное дарование. Более четверти века я прожил в одном доме с В. Б. Шкловским и время от времени бывал у него, особенно в шестидесятые годы. Я часто спрашивал, сколько книг он издал за свою, тогда уже долгую жизнь. Он отвечал неуверенно и всегда по-разному, но число никогда не опускалось ниже шестидесяти. А однажды, расщедрившись, он сказал: девяносто.