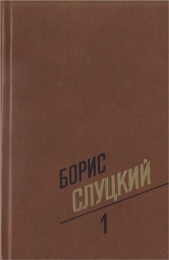Борис Слуцкий: воспоминания современников

Борис Слуцкий: воспоминания современников читать книгу онлайн
Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.
О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.
Для широкого круга читателей.
Второе издание
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Напряжение между собой и средой он ощущал, я думаю, уже в детстве, когда на «медную мелочь учился стиху» и покупал на отпущенные матерью гроши вместо булки дешевые тогда книги. Жили скудно и его семья, и все кругом, быт был суров, и если человеку, только вступающему в жизнь, чувствующему лишь первое влечение к слову, к поэзии, вообще трудно, вообще неловко признаться в этом даже близким людям, то приносить своему влечению, да еще при нехватке самого насущного, материальные жертвы, платить деньги за то, что он позднее иронически сравнит с «дыркой от бублика», — это в его глазах, безусловно, нечто непозволительное. Не сомневаюсь, что и юридический факультет, а не литературный, он выбрал главным образом потому, что тут маячила какая-то практическая, понятная всем и каждому специальность, профессия, а вовсе не из-за повышенного интереса к науке о праве. И будь его тяга к слову, к творчеству не так сильна, не так органична, он, может быть, и закончил бы свое юридическое образование, как-никак тоже гуманитарное. Впрочем, профессия юриста во второй половине тридцатых годов имела уже весьма извращенное отношение к праву, к гуманитарным наукам, к гуманности и вообще гуманизму…
Роль судьи, однако, как явствует из его посмертно опубликованных стихов, ему позднее все-таки пришлось выполнять.
Стихотворение о самостреле, чьим судьей ему довелось быть, он закончил словами о «страшных правах», которые не хотел бы брать на себя. Но жизнь назначила его на роль если не судьи, то присяжного и после войны, и оказалось, что исполнять эту роль в амплуа именно не «вождя», а «массы», подчиняясь дисциплине, приказу, манипуляции, ничуть не легче. Я ни разу не заговаривал с ним о его выступлении на собрании писателей, поносившем Пастернака, и вообще остерегался произнести это имя при нем. Кто хоть сколько-нибудь знал Слуцкого, тот не сомневается, что он мучился этой своей виной безысходно и, в отличие от некоторых других тогдашних ораторов, не успокаивал себя впоследствии дешевой ссылкой на то, что такое уж, мол, было время. Почему он, поэт, присоединился тогда к хору хулителей? Скорее всего, он сделал это «в порядке партийной дисциплины», думаю, что ему в ультимативной форме предложили выступить на собрании. Вполне допускаю, что он и в самом деле был ошеломлен тем, что Пастернак напечатал свой роман за границей. В истории советской литературы уже добрых три десятка лет такая публикация была событием беспрецедентным. Слуцкий, выросший в сознании особой идейной миссии нашей страны, «пришедший в Европу» военным политработником, услыхавший в гудках европейских заводов напоминание «про русское слово „пролетариат“, про коммунизм (тоже русское слово)», убежденный интернационалист, — привык думать категориями «у нас» и «у них», и сам факт, что книга, написанная под Москвой, вышла первым изданием в Италии, конечно, мог вызвать у него неприязнь. Вполне допускаю, что и в присуждении Пастернаку Нобелевской премии Слуцкий мог увидеть акцию политическую, а не свидетельство того, что мир восхищен этим поэтом, ведь и правда, стихи его поражают только когда их читаешь в оригинале. Да, эти обстоятельства, может быть, и дали какой-то мотив для того выступления, но мотив, думаю, уже дополнительный, подброшенный неспокойной «совестью исполнителя директивы». Слуцкому по натуре его претила поза обличителя и карателя, тем более обличителя и карателя поэта. Если стихи Слуцкого иногда дышат гневом, обидой, негодованием, то в жизни, сталкиваясь с неблагодарностью, корыстолюбием, чиновным чванством, шовинизмом и прочими гнусностями, он держался подчеркнуто спокойно, насмешливо, презрительно-иронически. Я думаю, что выйти тогда на сцену его заставили не те возможные внутренние мотивы, о которых было сейчас сказано, а нажим извне, задание. Стихотворение «Как меня принимали в партию» (произошло это событие на фронте, в 1943 году) Слуцкий кончил строфой:
Не думаю, чтобы после той злосчастной короткой речи кто-нибудь из настоящих друзей «крепко жал ему руку», а уж за глаза говорили о нем тогда, хорошо помню, с недоумением и горечью.
Стихотворение с этим заключительным четверостишием я цитирую по второму сборнику «Память», вышедшему в 1969 году, то есть через девять лет после смерти Пастернака и через тринадцать — после XX съезда. Сейчас у нас с грехом пополам утверждается нетерпимость ко лжи, десятки лет процветавшей в публичных речах, в печати, в общественной жизни. Но разве в конце шестидесятых годов не было видно, сколько лжи, сколько трусливых умолчаний накапливается изо дня в день на газетных страницах, на собраниях, «активах» и «встречах»? Что же, Слуцкий был конъюнктурщиком, лицемером, когда включил в книжку шестьдесят девятого года эти стихи? И забыл о том предании поэта анафеме, о том радении под знаком лжи и трусости, участие в котором столько лет лежало тенью на собственной жизни?
Надо совершенно не знать его, чтобы в это поверить. Строчки о недопустимости лжи и трусости — некое напоминание, некое, если угодно, заклинание. Они воскрешают чистую атмосферу справедливой войны, напоминают о честности и демократизме, приличествующих победившим фашизм. В этом же сборнике «Память» есть стихотворение «В батальоне выздоравливающих» об одном, как сказано там, «политразговоре», в котором были произнесены слова «идеи у нас милей». «В общем, этот политразговор — во мне», — говорит автор. Строчки «лгать нельзя и трусом быть нельзя» внутренне связаны с убежденностью в чистоте идеалов революции, в превосходстве ее демократических и человечных идей над идеологической оснасткой фашизма. Но земная жизнь идей непредсказуема. На исходе шестидесятых годов эти строчки можно было напечатать и прочесть без сарказма только как призыв вспомнить о чистоте побуждений, об идеализме и самоотверженности поколения революционеров и поколения победителей Великой Отечественной войны.
О нет, он вовсе не был догматиком, его верность идеалам молодости не надо понимать так узко и плоско. У него это доблесть, а не порок. О догматизме он написал балладу («Немецкий пролетарий не должон»), в которой слышится смех сквозь слезы. Герой этой баллады, майор Петров, жертва собственной слепоты, и гейневский Enfant perdu — очень разные человеческие типы. Слуцкий был ближе, конечно, ко второму, но и от него существенно отличался. Ведь смотреть на себя со стороны он умел не только под конец, когда родились строки: «Я был в игре. Теперь я вне игры» и «Уценяйтесь, переоценяйтесь, реформируйтесь, деформируйтесь, пародируйте, деградируйте, но без меня, без меня, без меня». Нет, задолго до того, как баз Herze brach («разбилось сердце»), можно сказать, на всем протяжении своего поэтического пути, он умел направлять на себя самого весьма скептический или горько-иронический взгляд. В 1952 году (под этими стихами, не в пример другим, стоит дата) он оставил выразительнейший образец такого умения: