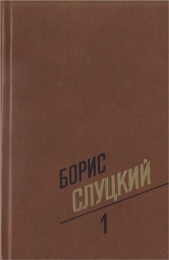Борис Слуцкий: воспоминания современников

Борис Слуцкий: воспоминания современников читать книгу онлайн
Книга о выдающемся поэте Борисе Абрамовиче Слуцком включает воспоминания людей, близко знавших Слуцкого и высоко ценивших его творчество. Среди авторов воспоминаний известные писатели и поэты, соученики по школе и сокурсники по двум институтам, в которых одновременно учился Слуцкий перед войной.
О Борисе Слуцком пишут люди различные по своим литературным пристрастиям. Их воспоминания рисуют читателю портрет Слуцкого солдата, художника, доброго и отзывчивого человека, ранимого и отважного, смелого не только в бою, но и в отстаивании права говорить правду, не всегда лицеприятную — но всегда правду.
Для широкого круга читателей.
Второе издание
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Какое-то время его ужасала бедность. Он твердил, что нет денег, хотя в чем в чем, а в деньгах он нуждался меньше всего.
Как-то он жаловался, что нечем побриться. Но, открыв тумбочку, чтобы положить электробритву, я обнаружил там… четыре других, таких же…
Однажды он позвал меня в палату, попросил поговорить с врачами. Тут он оставаться не может. Хочет в Кунцево (а как торопился оттуда!). Палата в Кащенко была действительно страшная. Огромная казарма с одинаково заправленными кроватями. Днем всех выгоняли в коридор, и они стояли там молча и страшно.
Последний раз я видел его так. Вошел в палату, он был один, лежал с капельницей. Долго смотрел на меня, взял за руку. Потом сказал: «Володя, наклонитесь». Я наклонился. «Поцелуйте меня». Я поцеловал его. Он плакал. Слуцкий плакал!
Я говорил с врачами о переводе. Просил Верченко. Он разводил руками. Чазов отказался вернуть Слуцкого в Кунцево. Наконец удалось договориться, что переведут в домик, вроде отеля, на территории той же Кащенко. Я был там, осмотрел одиночную палату, ковры, вернулся довольный. Но Борис, услышав про ковры, испугался — отказался наотрез. Теперь это был прежний Слуцкий: «Ковры, говорите… Нет. Я хочу быть со всеми». И остался. Потом звонок: «Володя, — говорил Ефим, брат Бориса, — я забираю Борю. Привез теплые вещи. Он больше не может». Я схватил такси. Мы разминулись. Из Тулы часто звонил Ефим. Писал письма. Я писал Борису. По свидетельству брата, он держал их под подушкой и перечитывал. Но согласия на мой приезд не давал. Потом сам попросил, чтобы я приехал. Перед самой смертью. Но я не успел… Вот его последнее письмо мне:
Дорогой Володя!
Спасибо за замечательную книгу. Это первая панорама многих поэзий. Первая попытка уяснить их общие законы. Очень хороши и важны куски об Ийеше, об Исаковском и многое, многое другое. Особое спасибо за страницы обо мне. Так основательно обо мне еще не писали. Целую Надю и Леночку. Брат и его семья кланяются Вам.
Ваш Борис Слуцкий.
Штемпель: получено 25.02.83.
Легко убедиться: письмо психически вполне здорового человека.
Ефим привез тело Бориса в Москву. Остановился на квартире Евгении Самойловны Ласкиной, с которой Борис был дружен.
Холодным ранним утром 27 февраля 1986 года я пошел к врачу рвать зуб. Через час надо было ехать в морг, а оттуда — в крематорий. Мне предстояло вести траурную панихиду. И какой ужас! Заморозка не действовала. Врач всадила мне три шприца подряд. Нервное ожидание похорон друга или что другое — не знаю. Велел рвать, не дожидаясь эффекта заморозки. Но какой страх сковал меня потом… Всю дорогу в крематорий я смотрел в замерзшее окно автобуса, чувствуя, как запоздало немеет челюсть. Я не мог не то что говорить — открыть рта.
Чудо случилось уже в тесном помещении морга, где люди стояли и снаружи, в открытых воротах.
Я шагнул к гробу. И… как говорится, разверзлись уста.
…Слуцкий любил рекомендовать разных людей. Однажды ко мне пришел Юра Болдырев. Скромный, без претензий, начитанный человек из провинции. Слуцкого — боготворил. Я стал его печатать в «Юности», дал рекомендацию в Союз писателей. После смерти Бориса помог с пропиской в Москве, предложил, с согласия Ефима, поселить «поближе к архиву», в пустующую квартиру Слуцкого. Постепенно энергией и ревнивым упорством Болдырева все хозяйство Бориса перешло под его личную опеку. Можно без преувеличения сказать, что посмертными публикациями поэта, сенсационными открытиями как бы во многом нового Слуцкого мы обязаны ему, Болдыреву, не говоря уже о подвиге кропотливой работы по подготовке и публикациям новых томов изданий Слуцкого.
Для меня лично ничего сенсационного в обнаружении рукописного Слуцкого не было. Не все, но очень многое я знал, к вопросу публикации многих стихов относился сдержанно. Возможно, и потому, что Борис читал мне обычно стихи выборочно, откладывая некоторые, как он говорил, «на потом». А то, что я читал, как правило, требовало либо доводки по качеству, либо какого-то нового идейного фокуса. Мне казалось, и я говорил об этом Борису, что он не решил для себя главного: признает ли наше время то, что оно было рубежом, историческим перевалом, за которым может открыться новая действительность, или будет защищать свои рубежи от грядущих перемен. Мне представлялось, что изображение на полотне Слуцкого двоится, что он в разных стихах противоречит себе, недоговаривает, а для стиха Слуцкого опаснее недоговоренности нет ничего. Отсюда и зыбкость, эскизность острого лишь местами слова.
Теперь мне кажется, что я был не прав. В мощном потоке посмертных публикаций перед читателем явился новый Слуцкий, а путь к иному качеству обозначен именно противоречиями, какие и составляют движущую силу его стиха. Конечно, плохо, что публикатор совершенно не признавал хронологии, как бы спрямив путь поэта к достижениям последних лет. Но таким, каким он предстает в посмертном облике своего творчества, он и останется в памяти поколений.
Состоявшимся поэтом. [28]
Соломон Апт. Годовая стрелка
(О Борисе Слуцком)
«Думаю, что мои сорок лучше, чем будут мои шестьдесят», — сказал он, когда ему и в самом деле было сорок. Мы неторопливо шагали по новым, еще не обжитым, не замызганным проходам-дворам тогдашнего Юго-Запада, который в те дни казался краем света, а теперь считается сравнительно близким к центру районом Москвы.
И без паузы, не дав мне задуматься, сурово и требовательно спросил: «А вы как думаете, ваши шестьдесят будут лучше, чем ваши сорок, или хуже?»
Меня тогда такие сопоставления, каюсь в своем недомыслии, не занимали, мне и сорока-то еще не было, и я чистосердечно ответил, что не знаю. Впрочем, и теперь, уже по размышлении, а главное, уже задним числом, то есть имея опыт обеих дат, я могу только повторить свой тогдашний ответ…
Но речь сейчас не обо мне, я начал свои воспоминания о Слуцком с этой его фразы, потому что в ней непроизвольно выразилась очень важная, как мне кажется, особенность его взгляда на мир. Ход времени, превращения, перемены, неизбежно, к лучшему они или к худшему, уготовляемые нам историей и возрастом, — их приметы он всегда отмечал в людях, в языке, в быте с большой зоркостью. Он, должно быть, с детства, во всяком случае смолоду, как бы кожей чувствовал всю реальность, весь трагизм и комизм гераклитовской истины «все течет», которую обычно принимают бездумно, как правило игры, как общее место, как поговорку.
У больших поэтов существование и творчество, собственная человеческая судьба и стихи, нерв личного бытия и нерв поэзии теснейшим образом связаны, сплетены. С особенной очевидностью это обнаруживается после смерти, когда жизнь и работа закончены и обозримы для заинтересованных глаз. Чуткость Слуцкого к ходу времени — есть еще то, что другой поэт назвал «шумом времени», но я говорю именно о ходе, движении — эта чуткость поистине водила его пером. «До сих пор меня не устали тешить серии „были — стали“», — сказал он однажды стихами, и если сказал неуклюже, то косноязычен он здесь как раз, может быть, потому, что коснулся чего-то очень важного для себя и сокровенного. Самое, пожалуй, выразительное и емкое литературное проявление первостепенности этого нерва для Слуцкого — почти все названия его прижизненных сборников. «Память», «Время», «Сегодня и вчера», «Современные истории», «Годовая стрелка», «Доброта дня», «Продленный полдень», «Неоконченные споры». Каждый заголовок как бы напоминает о движущейся стрелке часов, о сегодняшнем листке календаря, который не был действителен вчера и не будет действителен завтра.
Этот же интерес к «сериям „были — стали“» видится мне и в его упорном обыкновении ходить на похороны писателей, даже лично едва знакомых или совсем незнакомых. Тут не было ни сентиментальности, ни дешевого «светского» любопытства. Он прекрасно знал современную литературу, знал сделанное и самыми маленькими ее творцами, знал их общественное лицо, их биографии. Гражданская панихида в Доме литераторов — довольно верный показатель истинной, не номинальной популярности покойного, искренних или официальных симпатий или антипатий к нему. Это многозначительное завершение его земного пути, последняя встреча его «был» с его «стал». О похоронах самого Бориса Слуцкого — ниже…