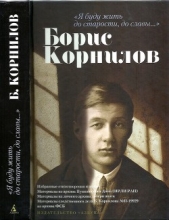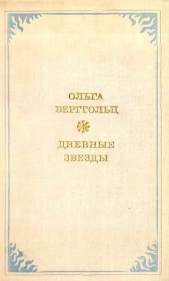Ольга. Запретный дневник.

Ольга. Запретный дневник. читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Здание школы на Смоленской, 14, уцелело. Сегодня в нем расположен проектный институт «Гипрообр».
В архиве Натальи Банк сохранилась корректура любимого детища О. Берггольц, книги «Узел», вышедшей в 1965 году. Откровенная и очень сильная поэтическая книга успела проскочить на излете «оттепели». Первый лист содержит автограф стихотворения 1952 года, озаглавленного «Отрывок»: «Достигшей немого отчаянья, / давно не молящейся Богу, / иконку „Благое Молчание“ / мне мать подарила в дорогу…» Стихотворение входит в состав самого сборника, но этот рукописный эпиграф ко всей книге усиливает, подчеркивает его значение для автора. «Молчание душу измучит мне, / и лжи заржавеет печать…» Так оно заканчивается, словно указывая, что и этой смелой книгой сказано еще далеко не все.
На титульном листе рукой О. Берггольц написано: «По исправлении печатать! Ольга Берггольц. 28.IV-65». Мелкой авторской правки довольно много. Она сделана синими чернилами, с сильным нажимом. Есть и вставленная строфа. В первом из двух стихотворений, обращенных к Евгению Львовичу Шварцу. Вот она:
Уж нас ли с тобой не драконили
разные господа
разными беззакониями
без смысла и без суда?!
Строфа эта аккуратно перечеркнута крест-накрест цензорским карандашом. Правда, не красным. Тем же карандашом перечеркнуто стихотворение «Нет, не из книжек наших скудных…». И если стихотворение вошло в трехтомник 1989 года, то строфа, благодаря сохраненной Н. Банк верстке, просто нашлась, образовав, таким образом, смысловую рифму с нашедшимся Делом.
Судя по блокадным дневникам, О. Берггольц была готова к тому, что надежды и народа, и ее собственные на послевоенную «оттепель» не оправдаются.
«— Как ты думаешь, изменится ли что-нибудь после войны? — спросила я его (Ю. Эшмана, журналиста. — Я. С.).
— Месяца два-три назад думал, что изменится, а теперь… вижу, что нет…
Вот и у меня такое же чувство! Оно появилось после того, как я убедилась, что правды о Ленинграде говорить нельзя (ценою наших смертей — и то не можем добиться мы правды!). <…> „ОНИ“ делают с нами что хотят» (дневниковая запись от 9/IV-42).
«Они» и после войны делали что хотели. Тучи начали сгущаться над О. Берггольц очень быстро, а 1949 год стал в этом смысле критическим. Именно с этим годом связана история «пробитого дневника». Пробитую гвоздем тетрадь показал Даниилу Гранину Г. П. Макогоненко, сопроводив рассказом о том, как однажды они с Ольгой Федоровной увидели, что к даче на Карельском перешейке, где они отдыхали, подъезжают черные машины. Макогоненко сделал единственно возможное в той ситуации: схватил «крамольную тетрадь» и прибил ее к внутренней стороне садовой скамейки. Тетрадь сохранилась и находится сейчас в РГАЛИ. В описи сказано: «Тетрадь проколота острым предметом». Теперь, благодаря свидетельству Даниила Гранина, происхождение «колотой раны» стало известно.
И этот пробитый гвоздем дневник рифмуется с «точащей кровь и пламя» рукой из стихотворения О. Берггольц конца 1930-х.
…А я бы над костром горящим
Сумела руку продержать,
Когда б о правде настоящей
Хоть так позволили писать.
Рукой, точащей кровь и пламя,
Я написала б обо всем,
О настоящей нашей славе,
О страшном подвиге Твоем…
В этой пробитой тетради оказались датированные 20–27 мая 1949 года страшные, на самом деле «точащие кровь и пламя» записи о жизни села Старое Рахино.
Там есть и такие строки: «…жизненной миссии своей выполнить мне не удастся — не удастся даже написать того, что хочу: и за эту-то несчастную тетрадчонку дрожу — даже здесь». На отдельных листах сохранилась и запись от 31 октября 1949 года, в ней рассказано о поездке на дачу. По всей видимости, именно тогда тетрадь и была прибита к садовой скамье.
В той же октябрьской записи встречается имя Всеволода Александровича Марина, тогда сотрудника дирекции Публичной библиотеки.«…Приходил Волька, — сказал, что ПБ получила задание — доставить компрометирующие материалы на „Говорит Л-д“». Таким образом О. Берггольц пытались сделать фигурантом «Ленинградского дела». Но из этой точки вернемся на десять лет назад, к следственному Делу Берггольц. Лист 174, протокол допроса Марии Васильевны Машковой, жены В. А. Марина (в 1939 году он — зам. директора ПБ, она — аспирант ПБ, там же работал и Н. Молчанов):
«— …Бергольц О. Ф. я знаю с 1928 г., по ЛГУ, она была в то время студенткой.
— А что вам известно о взаимоотношениях Бергольц с Авербахом?
— Авербаха я лично не знаю. Из разговоров Бергольц мне известно, что они с Авербахом были знакомы, это знакомство было непродолжительным.
— О преступном характере связей Бергольц с Авербахом вам что-нибудь известно?
— О преступном характере связей мне ничего не известно. Вся ее вина заключается в том, что она, зная его, своевременно не смогла разглядеть в нем врага, ослеплена была его авторитетом».
И еще из «Постановления о прекращении дела № 58 120-38 г. по обвинению Берггольц О. Ф.» (лист 222):
«…Марин и Машкова охарактеризовали Бергольц с положительной стороны».
И последнее: «Других материалов, изобличающих Бергольц в преступной антисоветской деятельности, не добыто» (курсив мой. — Н. С.).
Не все друзья предали, ни тогда, в 1939-м, ни потом, в 1949-м.
Итак, позади осталась тюрьма. Впереди была война. Эти две бездны также срифмуются в сознании О. Берггольц. 26 сентября, на восемнадцатый день блокады, Берггольц писала сестре Марии в Москву: «Что касается положения Ленинграда, — конечно, почти трагическое, душа болит страшно, но уверена, что вывернемся, — такая же убежденность, как в кутузке, когда была почти петля, а я была уверена, что выйду, — и вышла». «Неразрывно спаять тюрьму с блокадой» — одна из записей ко второй части «Дневных звезд». О. Берггольц «спаяла» тюрьму с блокадой антитезой, потому что как раз блокадное заточениедало пусть и относительную, но все-таки возможность почувствовать себя свободными от идеологического гнета («…такой свободой бурною дышали, / что внуки позавидовали б нам»). Но тюрьму она «спаяла» — еще шире — с войной. «Тюрьма — исток победы над фашизмом. Потому что мы знали: тюрьма — это фашизм, и мы боремся с ним, и знали, что завтра — война, и были готовы к ней».
АЛЕКСАНДР РУБАШКИН
«— Луна гналась за нами, как гепеушник»
Война стала одной из Вершин (слово О. Берггольц), взятой поэтессой. Пройдя через испытания тюрьмой, едва ее не сгубившие, она нашла силы выразить настроения, переживания двух важнейших этапов своей жизни. О стихах предвоенных, тюремных и послетюремных мало кто знал, но они звучали в ней. Как и открытые, искренние июня 1941-го, выразившие ее гражданскую позицию:
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня,
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!
Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.
Этих слов Родина тогда не услышала. Но если бы О. Берггольц их не написала, ей было бы трудно выполнить миссию… «Блокадной музы». Она стала ею во многом благодаря радио. «Сквозь рупора звучащий голос мой» — так вспоминала Берггольц уже конец августа сорок первого, когда враг был у ворот города.
Радио позволило ей стать голосом блокадного Ленинграда, беседовать со своими согражданами, помогать им выдержать неисчислимые беды, потери. Голодные люди в промерзших квартирах, лишенных воды и света, прислушивались к репродуктору, порой едва шептавшему. В феврале 1942 года, прочитав по радио свою поэму «Февральский дневник», она стала поистине народной поэтессой. Голос Ленинградского радио, голос Берггольц, выходя в эфир, прорывал блокаду.
Потом, уже летом 1942-го, была «Ленинградская поэма», с ее железными строками «сто двадцать пять блокадных грамм с огнем и кровью пополам», их тоже услыхали за блокадным кольцом. Ее земляки понимали: с ними — «по праву разделенного страданья» — говорит близкий им человек, такой же, как они, блокадник.