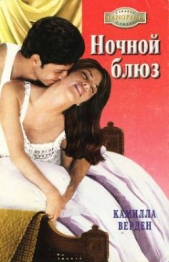Исповедь (СИ)

Исповедь (СИ) читать книгу онлайн
Более жестокую и несправедливую судьбу, чем та, которая была уготована Ларисе Гениуш, трудно себе и представить. За свою не очень продолжительную жизнь эта женщина изведала все: долгое мытарство на чужбине, нищенское существование на родинеу тюрьмы и лагеря, глухую стену непризнания и подозрительности уже в наше, послесталинское время. И за что? В чем была ее божеская и человеческая вина, лишившая ее общественного положения, соответствующего ее таланту, ее гражданской честности, ее человеческому достоинству, наконец?
Ныне я могу со всей определенностью сказать, что не было за ней решительно никакой вины.
Если, конечно, не считать виной ее неизбывную любовь к родной стороне и ее трудовому народу, его многовековой культуре, низведенной сталинизмом до уровня лагерного обслуживания, к древнему его языку, над которым далеко не сегодня нависла реальная угроза исчезновения. Но сегодня мы имеем возможность хотя бы говорить о том, побуждать общественность к действию, дабы не дать ему вовсе исчезнуть. А что могла молодая белорусская женщина, в канун большой войны очутившаяся на чужой земле, в узком кругу эмигрантов, земляков, студентов, таких же, как и она, страдальцев, изнывавших в тоске по утраченной родине? Естественно, что она попыталась писать, сочинять стихи на языке своих предков. Начались публикации в белорусских эмигрантских журналах, недюжинный ее талант был замечен, и, наверное, все в ее судьбе сложилось бы более-менее благополучно, если бы не война...
Мы теперь много и правильно говорим о последствиях прошлой войны в жизни нашего народа, о нашей героической борьбе с немецким фашизмом, на которую встал весь советский народ. Но много ли мы знаем о том, в каком положении оказались наши земляки, по разным причинам очутившиеся на той стороне фронта, в различных странах оккупированной Европы. По ряду причин большинство из них не принимало сталинского большевизма на их родине, но не могло принять оно и гитлеризм. Оказавшись между молотом и наковальней, эти люди были подвергнуты труднейшим испытаниям, некоторые из них этих испытаний не выдержали. После войны положение эмигрантов усугубилось еще и тем, что вина некоторых была распространена на всех, за некоторых ответили все. В первые же годы после победы они значительно пополнили подопустевшие за войну бесчисленные лагпункты знаменитого ГУЛАГа. Началось новое испытание новыми средствами, среди которых голод, холод, непосильные работы были, может быть, не самыми худшими. Худшим, несомненно, было лишение человеческой сущности, и в итоге полное расчеловечивание, физическое и моральное.
Лариса Гениуш выдержала все, пройдя все круги фашистско-сталинского ада. Настрадалась «под самую завязку», но ни в чем не уступила палачам. Что ей дало для этого силу, видно из ее воспоминаний — это все то, чем жив человекчто для каждого должно быть дороже жизни. Это любовь к родине, верность христианским истинам, высокое чувство человеческого достоинства. И еще для Ларисы Гениуш многое значила ее поэзия. В отличие от порабощенной, полуголодной, задавленной плоти ее дух свободно витал во времени и пространстве, будучи неподвластным ни фашистским гауляйтерам, ни сталинскому наркому Цанаве, ни всей их охранительно-лагерной своре. Стихи в лагерях она сочиняла украдкой, выучивала их наизусть, делясь только с самыми близкими. Иногда, впрочем, их передавали другим — даже в соседние мужские лагеря, где изнемогавшие узники нуждались в «духовных витаминах» не меньше, нем в хлебе насущном. Надежд публиковаться даже в отдаленном будущем решительно никаких не предвиделось, да и стихи эти не предназначались для печати. Они были криком души, проклятием и молитвой.
Последние годы своей трудной жизни Лариса Антоновна провела в низкой старой избушке под высокими деревьями в Зельвеу существовала на содержании мужа. Добрейший и интеллигентнейший доктор Гениуш, выпускник Карлова университета в Праге, до самой кончины работал дерматологом в районной больнице. Лариса Антоновна растила цветы и писала стихи, которые по-прежнему нигде не печатались. Жили бедно, пенсии им не полагалось, так как Гениуши числились людьми без гражданства. Зато каждый их шаг находился под неусыпным присмотром штатных и вольнонаемных стукачей, районного актива и литературоведов в штатском. Всякие личные контакты с внешним миром решительно пресекались, переписка перлюстрировалась. Воспоминания свои Лариса Антоновна писала тайком, тщательно хоронясь от стороннего взгляда. Хуже было с перепечаткой — стук машинки невозможно было утаить от соседей. Написанное и перепечатанное по частям передавала в разные руки с надеждой, что что-нибудь уцелеет, сохранится для будущего.
И вот теперь «Исповедь» публикуется.
Из этих созданных человеческим умом и страстью страниц читатель узнает об еще одной трудной жизни, проследит еще один путь в литературу и к человеческому достоинству. Что касается Ларисы Гениуш, то у нее эти два пути слились в один, по- существу, это был путь на Голгофу. Все пережитое на этом пути способствовало кристаллизации поэтического дара Ларисы Гениуш, к которому мы приобщаемся только теперь. Белорусские литературные журналы печатают большие подборки ее стихов, сборники их выходят в наших издательствах. И мы вынуждены констатировать, что талант такой пронзительной силы едва не прошел мимо благосклонного внимания довременного читателя. Хотя разве он первый? Литературы всех наших народов открывают ныне новые произведения некогда известных авторов, а также личности самих авторов — погибших в лагерях, расстрелянных в тюрьмах, казалось, навсегда изъятых из культурного обихода народов. Но вот они воскресают, хотя и с опозданием, доходят до человеческого сознания. И среди них волнующая «Исповедь» замечательной белорусской поэтессы Ларисы Гениуш.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Наконец приехал на каникулы муж. Он не узнал меня, такую некрасивую. Родители рассказали, что со мной случилось, и он порядком разозлился. Нельзя мне было так делать, еще не время, тем более беременной. Я долго плакала, не хотела никому объяснять, что это произошло как-то помимо моей воли... Мать мужа скоро уехала в Латвию к своей сестре, а я осталась домовничать. Была корова, даже две, поросенок, куры и все остальное хозяйство. Муж часто помогал мне носить с огорода траву для поросенка и вообще старался всегда быть рядом. Я очень ценила это. Вот только было у нас полное безденежье... Съездил муж к моим родителям, цо что мог нам дать мой отец? Зерна уже не было аж до нового урожая, а ведь коров нельзя продавать весной. Муж задумался, он решил опротестовать векселя. Видимо, думал, что ничего уже здесь долго не продержится. Родители мои никак не соглашались продать мой клочок земли, это вовсе не в характере крестьян... Чтобы опротестовать векселя, нужна была и моя подпись, главное — моя. Я еще дома столкнулась с этим и, к сожалению, представляла, что все это значит. Это землемеры, волокита, непредвиденные расходы и слезы, слезы моих родителей... Нет, сказала я, этого я не сделаю никогда, лучше разойдусь с тобою, мой муж... Я говорила это совершенно спокойно. Муж мой обижался, его мама тоже. У мужа были в Чехии долги, и нужно было срочно их заплатить. Я винила своих родителей — в конце концов, земля же моя, но добавить им неприятностей было выше моих сил... Наконец позвал меня к себе отец мужа. Я пошла к нему как на суд. «Что же, Лариса, не подпишешь векселей против своего отца?» — «Нет, таточка, я их не подпишу, я не могу так поступить...» Тогда старик протянул ко мне руки, обнял и сказал: «Я счастлив, детка, что ты именно такая, если не можешь обидеть своих родителей, то никогда не обидишь моего сына...» Я заплакала. А добрый старый Петр Станиславович Гениуш продал вторую свою коровку и заплатил долги сына. Я никогда об этом не забывала, и когда мы были в Праге, только и делала, что посылала ему посылочки одну за другой... Бедные наши родители, как же редко могли они за нас порадоваться, разве только человечности нашей, преданности... И умерли они все, мои родители и Яночкины, без нас, одинокие и покинутые всеми... И это тоже часть судьбы нашего народа, его страданий, страданий детей его, что никому никогда не продались и не отреклись от народа своего, от того, чтб Ему, как всем другим народам на свете, принадлежит!
...Близились польские выборы, где кандидатов назначали сверху. Еще ранней весной умер Пилсудский, поляки старались крепче удерживать свои меньшинства. Уже не говорилось — Беларусь, а «восточные крэсы», и народность писали просто: тутэйшыя... Белорусы бойкотировали выборы, не пошли на них и мы....Тем временем тают наши деньги, и я снова еду к моим родителям. Я всей душой теперь с моим ребеночком, и муж очень хочет, чтобы это был сын. Дома я сплю на своей девичьей постели в своей комнате. Ночью во сне приходит ко мне женщина, перед которой я чувствую себя маленьким-маленьким зернышком. У нее на челе три темных круга, средний самый высокий. Смотрит она на меня в упор и говорит, что у меня будет сын, но на мне лежит большая ответственность за его судьбу, чтобы я об этом помнила... Я просыпаюсь. Мне неспокойно, и образ женщины из сна меня преследует. Я верю, что будет сын, и мы еще нерожденного его назвали Юркой. И 21/Х 1935 года родился сын. Казалось, что все неполадки с отъездом, все это только затем, чтобы счастливо, при муже родился сын.
...Но вот мужу дали разрешение выехать. ...Пришел день, когда мы снова простились, и если бы я знала, что это на целых два долгих года, наверно, не смогла бы выдержать. Сыночку было полтора месяца. ...Я жила у родителей, снова помогала папе как-то сохранить наши Жлобовцы. Были высокие налоги и давние долги волпинским купцам, преимущественно те, которые мы уже выплатили. Папа мой сильно затосковал. Было бы долго описывать всю мою борьбу, набеги секвестраторов на нас и на село рядом. Как волокли коров, телушек, полотна, ковры и лен. Как били сапогами беременную женщину, так что она выкинула ребеночка на пятом месяце, как раскрадывали из девичьих сундуков то, что целую жизнь ткали им матери в приданое... Никто не карал за обиды, что чинили нашему народу... Это же были нелюди, такие же, как те, кто сегодня еще безнаказанно преследует и душит остатки жизни моей и делает с нами, что хочет. Даже письмо от сына идет до нас вдвое дольше, чем идут обычно, или эти письма нам не отдают вообще...
Наконец написал мне муж, чтобы я попыталась выехать к нему. Он нашел где-то скромную работу, и пора уже было ему увидеть сына. Полгода тянулось дело с моим выездом...
Родители по-прежнему хозяйствовали, выкручивались из долгов... Это были последние дни моего пребывания на Родине. Кончался 37-й год, с полей тянуло холодным ветром, и закаты стали кровавыми, вечерами, ночами стояли зарева пожаров, частых, как на беду. Еще раз вызывали папу относительно выписки бел<орусских> газет, пригрозили штрафом (например, за собак и т. п.) и неприятностями, а папа уже привык к ним... Я немного писала, стихов своих по- прежнему никуда не посылала, иногда — мужу.
...А народ стонал. Поляки еще имели наглость упрекать нас в том, что мы их не любим, неблагодарны им за цепи... А протест против них нарастал. Я молчала, но все это оседало на сердце жаждой сражения за лучший мир. Однажды в сумерки я держала Юрочку на руках, было очень тихо, в доме никого, я думала о судьбе нашего народа и вдруг почувствовала уверенность, такой прилив сил, что все стало мне нестрашным и я не боялась за свое будущее. Крепко прижала к себе ребенка и даже замерла от счастья. С той поры я шла вперед уверенно и не поступаясь своей совестью. В Зельве поразила меня жена тогдашнего войта, меж<ду> пр<очим> белоруса, посоветовав,, чтобы я, когда снова поеду в старостат за разрешением, говорила, что моя народность польская. Я скоро туда поехала и сказала им, что я Белоруска, чтобы знали, что Белоруска и никогда своей народности не изменю, и теперь знаю, ?то только поэтому меня не пускают к мужу! Они смутились и сказали, что с тех пор, как я подала бумаги на выезд, они уже пустили за границу 300 евреев и что дело не в этом... Через некоторое время мне действительно дали разрешение. Я поехала проститься с родителями. Все были рады, что мы едем, а я так плакала, так плакала, как никогда. Мне так тяжело было их всех оставлять. Это опять я своими нервами, своими обостренными чувствами предвидела всю трагедию, которая ожидала мою семью. Горячо простилась с отцом мужа, взяла сына, немного постельного белья, образ, которым меня благословили, чемодан и поехала. До Волковыска провожали меня мама и Люсенька. Мама очень любила Юру, когда я от них уезжала, мама схватила его и унесла в поле, чтобы никто не видел ее боли и слез по любимому внуку. Вот и теперь ей было трудно оторвать мальчика от груди. Я еще купила Люсеньке маленькие подарочки, расцеловала маму, ее глаза и руки и вскочила в поезд. Мама покачнулась, ее поддержали, поезд тронулся.
ПРАГА
В Варшаве встретили меня знакомые и назавтра посадили в пражский поезд. Немодно одетая, худая и грустная, я держала на коленях прелестного мальчика, толстенького и краснощекого. Люди в купе угощали его, кто чем был богат, а он щебетал по-белорусски.
Прошли мы польский контроль, они были неприветливы. И вот приходят почти такие же, но сердечно здороваются с нами, смеются, и я удивляюсь. Оказалось, что это уже чехи, хоть и говорили по-польски. Вокруг меня собрались люди, кто-то взял Юру на руки и сказал, что он его папа. Мальчик заспорил, но своего папу он узнал сразу, обнял его за шею, и так мы пошли к такси.
Два года проложили какую-то трещину в наших отношениях, и это чувствовалось. Муж жил на квартире,, с каким-то студентом снимал комнату. Мы приехали в последние дни 37-го года, доллега мужа поехал к своим родителям. Пару недель мы пожили вместе, а потом муж отвез меня и своего чересчур любопытного мальчика, успевшего уже поломать ему стрелки на часах (почему же они крутились?) в Моджаны. Это был пригород Праги, там жили дядька Василь Захарка, у которого, недавно умерла его дорогая жена, и пани Мария Кречевская. Вот там он нас и оставил. Сам он жил и работал в Праге, к нам иногда приезжал, на воскресенье обязательно.