Дочки-матери
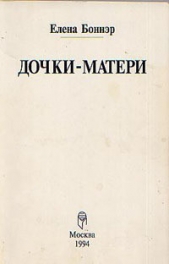
Дочки-матери читать книгу онлайн
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
На следующий день была найдена другая Земфира, на подлинную цыганку похожая только тем, что черноволосая. Совсем некрасивая девочка по имени Таня. Она оказалась способной. Иногда Севка после репетиций даже говорил: «Талант!», и мне казалось, что он немножко влюблен в этот «талант». Я взяла на себя (как много раз потом) весь реквизит, костюмы, занавес и прочее. Мне это настолько нравилось, что я не успела начать волноваться за Севкину влюбленность. Кстати, она прошла начисто после нашего вполне успешного спектакля. Больше никогда в жизни я не пробовала себя на амплуа драматической актрисы.
Из-за школьных дел и Совиного дома я меньше бывала дома, почти отстранилась от ребят из «Люкса». Но и дом наш стал как-то исподволь меняться. Мама уже не работала в МК, а училась в Промакадемии им. Сталина. Она собиралась стать инженером-строителем.
Мне это было странно. Именно в этом году, в связи со всякими своими пионерскими делами, я решила, что буду партработником. Когда я однажды это сказала папе и маме, мама скептически заметила, что у меня совсем нет организаторских способностей. На что папа засмеялся и сказал, что, по его мнению, есть. Он на днях видел, как я шла по Глинищевскому переулку с большой группой мальчишек. И что ему кажется, я неплохо их организовала. Ну, просто «уличная девчонка». «Ты, что, Геворк!» — прикрикнула на него мама. А папа ей ответил, что это у них — сибиряков — «уличная» это плохо. А в Тифлисе улица теплая. И «уличная» это значит — идет по улице девушка, а вся улица рвется идти за ней или хотя бы смотрит ей вслед. Я была польщена, что это про меня впервые было сказано «девушка», а не «девочка», и вообще мне понравилось папино объяснение.
К маме стали ходить ее соученики — готовились то к экзаменам, то к зачетам. Они мне не казались такими интересными и яркими, как друзья в Ленинграде и в первые московские годы. Вообще это были не друзья, а именно соученики. Всем им было учиться трудней, чем маме, она им помогала. Но мне казалось, что ей от них так же скучно, как мне.
А настоящие их друзья бывали реже, а когда приезжали, не выглядели такими беззаботными, напористыми, радостно-сильными. Постарели они, что ли? Может, только Агаси бывал по-прежнему шумным и по-прежнему, если к вечеру должен был появиться он, то как знак того, что он уже не в Эривани (это не ошибка — это тогда так говорили), а в Москве, появлялся какой-нибудь человек с ящиком фруктов. Да еше Степа Коршунов бывал веселым, когда приезжал. Он наконец-то женился и без конца что-то говорил про свою жену, так что всем становилось ясно, что он совсем потерял голову от любви. А вообще говорить про любовь или показывать ее у них не было принято. А Бронич из Николаева и Шура Брейтман из Одессы и все другие из Ленинграда приезжали грустные. И меня удивляло, что они теперь, вместо того, чтобы всем сидеть в столовой за веселым чаем или с вином, уходили подолгу негромко разговаривать к папе в комнату.
Особенно я замечала какую-то угнетенность в Алеше Столярове и Мане Каспаровой и что она так грустно на папу смотрит. Я знала, что Маня просто обожает папу, что он для нее «свет в окошке» и самый умный. Когда-то маленькими мы с Егоркой почему-то ночевали у них на Сивцевом Вражке. Я еще возилась на кухне, а Егорка уже был в постели и канючил — «а в кроватку». Маня его не понимала и квохтала над ним, как курица, а он решил притворяться и плакать. Пришла я и объяснила растерянным Мане и Алеше, что нам надо чего-нибудь дать «в кровать», ну, что у них есть, можно яблоко, или конфету, или, на худой конец» печенинку. Маня начала говорить что-то, что это не гигиенично и кто это нас так плохо приучил. А я ей сказала: «Как кто? Твой Алиханов». Маня замолчала, а Алеша стал над ней смеяться, что даже малые дети видят, как она обожает своего Геворка. Мане было нечего сказать, и она пошла искать нам то ли яблоко, то ли еще что-то.
Господи, как удивительна память! Вчера я писала о друзьях мамы и папы. Потом в ванной слове возвращалась мыслью к написанному. Почему Маня и Алеша последние два года выглядели более угнетенными, чем другие? Особенно Маня? Почему у нее стали такие тоскующие глаза? И внезапно вспомнила! Манин брат, Иван Каспаров, был секретарем Ленинградского горкома партии. Его арестовали почти сразу после гибели Кирова. Вот и встало все на свои места! Просто в их семью 37-й пришел чуть раньше.
И уже пошли какие-то воспоминания о семье Вани Каспарова.
Его самого я почти не помню. Но хорошо помню жену Геню, маму Татьяну Сергеевну и дочь Таню, крупную, яркую, поразительно красивую девочку. После 37-го я бывала у них в Ленинграде и не то чтобы дружила, но приятельствовала с Таней. Несколько раз я приводила ее в нашу школу на вечера, и, кажется, все мальчики сразу на весь вечер в нее влюблялись. Судьба их семьи более типична для тех, кого »меч правосудия» настиг в первой половине тридцатых годов. В лагере Ваня вернулся к своей первой, допартийной профессии. По образованию он был врач. Выжил. И возвратился. Геня — тоже врач, не была арестована и работала в одном из ленинградских родильных домов. А в 37-м — 38-м обычно было — мужу 10 лет без права переписки, что фактически означало расстрел, и жене 8 лет как ЧСИР, ну, в лучшем случае — жене 5 лет. Все по той же «дамской» статье — член семьи изменника родины.
В конце двадцатых или в начале тридцатых Ваня работал в Москве. Они жили в Доме правительства, и нас с Егоркой папа однажды туда привез, когда мама болела, а няня была в каком-то запоре. Мы с Таней собрались, гулять, и нам доверили взять с собой Егорку, которому было чуть больше трех лет. Мы пошли на набережную. Там у причала стояли несколько барж с песком и досками. К одной вели сходни. Рабочих, которые достраивали какую-то часть этого дома-города, на набережной видно не было. День был теплый. Сияли купола храма. А мы решили поиграть в песке. По сходням, таща Егорку, перебрались на баржу и возились в песке часа полтора. Потом вернулись на берег. И тут я увидела, что баржа, тихо покачиваясь, отплывает от причала. А там на песочке, таком чистом, желтеньком, калачиком свернувшись, спит Егорка. Перебраться к нему на баржу уже не было возможности. Меня обуял ужас. Я закричала. От моего крика Егорка проснулся, подошел к борту баржи и, довольный своим плаванием, стал махать нам рукой. Я кричала ему, чтобы он отошел, бежала параллельно барже по берегу и страшно кричала. А Танька сначала совсем не испугалась и воспринимала все это как игру. Она прыгала и смеялась. Только мой крик, смешанный с плачем, заставил ее наконец что-то понять. Она тоже стала истошно вопить — то ли Егорке, то ли звать на помощь. Наконец, на наши крики обратили внимание какие-то мужики, ладившие что-то на мостовой, и подбежали к нам. Они зацепили баржу, подтянули ее к бережку — каменной набережной тогда еще не было — и сняли Егорку с его первого в жизни «корабля». Я схватила его и, держа поперек живота, потому что взять на руки у меня не хватало сил, потащила домой к Каспаровым. Потом я позвонила папе, чтобы он скорей взял нас домой. Я ненавидела себя и ругала за то, что забыла Егорку на барже.
Я забыла брата! Танька была ни при чем. Но оставаться в гостях у нее мне не хотелось. Потом я еще не раз приходила к ним с папой — это же был дом его друзей. Но память об этом случае почему-то всегда осложняла мое отношение к Тане.
После возвращения из лагеря мама однажды встречалась с Ваней и Геней где-то в кафе. Дома у нас или у них встретиться боялись. Мама тайно приехала в Ленинград из Луги, Ваня еще откуда-то. А через несколько дней к Ване пришел милиционер, и ему было велено уезжать из Ленинграда к месту прописки. Геня почему-то винила в этом маму. Как будто она донесла на Ваню, что ли? Какая-то чушь, на которую мама смертельно обиделась.
К этому еще присоединилась обида на меня. Таня то ли перед войной, то ли в ее начале вышла замуж за врача, который работал где-то в сельской или полусельской местности. Послевоенное время было голодным. Кто-то рассказал, что она завела корову и огород. И я сказала, что если б не готовиться в институт, то я бы тоже не прочь завести огород. Это было передано Каспаровым так. что я вроде смеюсь над огородом и воображаю, потому что собираюсь учиться, а у Тани судьба сложилась так. что она не получила высшего образования. Тоже чепуха какая-то. Но мы больше никогда не общались с Маней Каспаровой — папиным ближайшим другом.
























