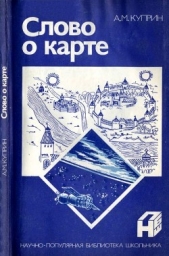Раскрепощение
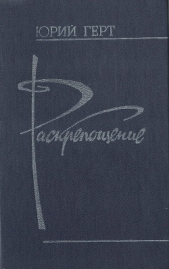
Раскрепощение читать книгу онлайн
Предлагаемая книга - целостное, внутренне последовательное повествование о происходившем в стране, начиная с тридцатых годов двадцатого века и кончая началом девяностых годов. Автор не экономист, не историк, а писатель, его внимание сконцентрировано на людях, с которыми его сводила судьба. В первой части публикуются воспоминания врача В. Г. Недовесовой о Карлаге, о репрессированных ученых, Чижевском, Белинкове. Во второй части рассказывается о Казахстане 60-х годов, трудовом и литературном. Это, с одной стороны, Казахстанская Магнитка, с другой, журнал «Простор», объединяющий в себе лучшие литературные имена — Шухова, Домбровского и других.Третья часть — осмысление писателем событий сегодняшнего дня, когда происходит воскрешение творчества Магжана Жумабасва, Анны Никольской.В книге широко использованы письма, документы, мемуары.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
А пока — воскрес из полу небытия «Реквием» Ахматовой, воскрес из такого же полубытия — полунебытия шедевр Твардовского «По праву памяти», о котором Иван Петрович сказал: «Такие стихи скрывать?.. Бог этого не простит!..» Затем пришла очередь «Котлована», «Чивенгура»... И снова в памяти — Шухов, 1963 год, публикация «Джана» в «Просторе»... Воскрешение — еще одно! И несть — совсем ошеломляющая: сразу в трех московских журналах читают Юрия Домбровского! Не верить — нельзя: Клара Домбровская сама рассказывает об этом, когда мы сидим на скамеечке в сквере, поблизости от главпочтамта — на той самой скамеечке, на которой не раз, бывало, сиживали с Юрием Осиповичем, выйдя из редакции «Простора», которая рядом, через дорогу... Уже не январь, когда на экраны вышло «Покаяние», а — середина лета 1987 года, но — Перестройка продолжается! Не только мне, должно быть — многим, особенно из переживших печальный финал шестидесятых, время от времени хочется ущипнуть себя: не сон ли все это?.. Не сон. Печет полуденное солнце, с тех пор, как мы виделись два года назад, Клара чуть пополнела, лицо округлилось еще больше, легкая испарина, хотя мы и забрались в тень, покрывает мелкими капельками ее виски, мягко очерченные губы. На ней легкое цветастое платье, а в темных, кофейных глазах — живой искристый блеск. Она рассказывает о Москве, Бакланове, Залыгине — по их поручению ей звонили, просили передать экземпляр... Да и не только они... Она рассказывает охотно, как бы сама прислушиваясь к своему звучному грудному голосу — и верит, и не верит произносимым словам. А я слушаю — и вспоминаю, как приезжали они к нам домой, на обед, и Юрий Домбровский читал, наговаривал на магнитофон — старый добрый катушечный маг «Днепр-11»:
Меня убить хотели эти суки...
— Да,— говорю я Кларе,— да, конечно, отчего же...— А про себя думаю: нет, не может этого быть!
Но проходит после той встречи с Кларой год — и Домбровского печатают! В «Новом мире», в четырех номерах, с тем самым посвящением Анне Самойловне Берзер!.. Вскоре после смерти Юрия Осиповича Клара Домбровская подарила мне большого формата фотографию — в солнечный день московской весны идет он, пальто нараспашку, со свешивающимся с шеи шарфом, с взлохмаченной порывом ветра головой — вольный человек шагает по земле, слегка щурясь от ярких лучей, тень от бровей двумя подковками ложится на глаза, тень от носа треугольником разрезает губы; может быть, от этого кажется, что Домбровский силится улыбнуться, но внутреннее напряжение не оставляет его, настороженность, ощущение неведомой опасности... Фотография эта всегда передо мной с тех пор, но — кажется, он вышел, вышел наконец-то из «зоны», в которой — никому, ничему неподвластный — прожил всю жизнь!.. И наш алма-атинский театр уже заказывает инсценировку «Факультета», и артисты приступают к репетициям, и документальный фильм прошел по экранам телевизоров, Фазиль Искандер и Булат Окуджава рассказывали о своем друге, о Юрии Домбровском, большом писателе, который — как и многие — должен был умереть, чтобы потом воскреснуть...
Загадки украшают нашу жизнь. Загадка для меня — что думали, нет — слова, мысли нетрудно обмануть, перехитрить, перелукавить,— что чувствовали, перечитывая Домбровского или сидя у телеэкрана — те, кто сыграл зловещую роль в его судьбе? Те, что его пережили, облегченно вздохнув после того, как узнали о смерти Домбровского?.. Теперь — что чувствуют они, глядя в глаза своим воскрешенным жертвам?..
За Домбровским — Магжан Жумабаев...
Сколько я прожил в Казахстане, столько слышал об этом поэте-легенде, человеке-легенде, о его несравненных стихах, которые народ поет как песни, о его пронзительных строках, которые тайно, с опаской переписывали, перепечатывали, передавали из рук в руки... Он был арестован дважды. Первый раз — в 1929 году, когда его бросили на десять лет в карельские лагеря. Он не отсидел положенного срока полностью: в 1936 году М. Горький и Е. Пешкова добились освобождения Магжана Жумабаева. Во второй раз он был арестован через год — и расстрелян. Реабилитации времен Хрущева коснулись многих, Магжана Жумабаева в том числе. Но после того пришлось ждать еще двадцать восемь лет, пока стихи его пробьются в печать, пока в переводе на русский язык они, не умиравшие, впрочем, никогда, ибо стихи, в отличие от их автора, нельзя умертвить, пока они воскреснут из своего полубытия для всех нас...
Попытка такого воскрешения, впрочем, была предпринята в конце шестидесятых: Максим Горький способство вал вызволению из лагеря поэта, ученик Горького Иван Петрович Шухов пытался вызволить из зоны, обнесенной колючей проволокой запретов, его поэзию. В «Просторе» готова была подборка стихов Жумабаева, написана вводная статья, материал запланировали в номер, заслали в типографию... И хотя из всего этого не делалось никакого секрета, хотя и дело-то затевалось во всех отношениях благое, давно ожидаемое, тем не менее состояние нашей редакции было, как на космодроме, когда остаются последние минуты перед запуском, и вот уже пошел отсчет: десять, девять, восемь, семь... Казахские поэты, прозаики, критики, равно как и русские их коллеги, заходили в редакцию, заглядывали к Шухову в кабинет — и о чем в те дни не заговаривали, за всеми словами стояло главное: как Магжан?.. Шухов посмеивался. Бодрился. Но и у него на душе было неспокойно. Шесть... Пять... Четыре... Дальше счет оборвался: раздалась команда — запуск отложить.
Журнал вышел без подборки Магжана Жумабаева, поэзия вновь осталась без его стихов.
Туча к туче, черная как вакса,
гром гремит, вселяя страх: молчи!
Небосвод пригнулся и напрягся,
хлещут воздух молнии-бичи.
Плыли тучи, и дожди стучали,
а теперь иная полоса.
Если мы устали от печали,
душу просветляют небеса.
Это — Магжан Жумабаев. А «иная полоса» — наше время. И пускай — не «Простор»-68, а «Дружба народов»-88... Все равно: время — наше...
О Василии Гроссмане, его романе, конфискованном в 1961 году, я услышал впервые от Наума Коржавина. «Жизнь и судьба» спустя двадцать восемь лет оказалась выпущенной на свободу из узилища, в котором полагалось ей пребывать бессрочно: по словам нашего компетентного деятеля сталинской закваски Суслова — 200 лет. Но и 28 — немалый срок. За эти годы наша литература, наша общественная мысль занималась изобретением велосипедов, а то и пролеток, дрожек и тарантасов — при наличии сверхсовременного воздушного лайнера, наглухо запечатанного в подземном ангаре... Но как бы там ни было, книге с трагической судьбой возвращена жизнь.
Четыре человека. Четыре судьбы. Четыре убийства. Четыре воскрешения. Список можно увеличивать, наращи вать — но к чему?.. Я хочу к четырем добавить еще лишь одно имя — Галич.
Приезжая в Алма-Ату по своим киношным делам, он бывал в «Просторе», привозил и охотно давал прочесть не имевшую сценической перспективы пьесы «Матросская тишина» (теперь ее ставят сразу несколько театров). У него здесь отыскались и давние знакомцы по Москве, литературно-театральному кругу. Он пел — в театре перед артистами, в университете перед студентами (устроители таких вечеров незамедлительно получали начальственные разносы и выговоры), но чаще это были небольшие, тесные дружеские компании с небогатой, сочиненной наскоро закуской и выпивкой. Жилось ему трудно: стихов не печатали, сценариев не принимали, к театру не подпускали; все, на что мог он рассчитывать, это — доработать, т.е. переписать заново чью-то кинохалтуру, включить в кинофильм одну-две своих песенки... Но вид у Галича, крупно и прочно сложенного, всегда был уверенный, взгляд выпуклых глаз — холодновато-снисходительный, костюм — респектабельный, с налетом артистической небрежности и щеголеватости. «Поймали птичку голосисту и ну сжимать ее рукой...» Меньше всего походил он на такую вот помятую, попискивающую в кулаке птичку: пел он все голосистей, громче, безбоязненней. Это потом уже в Москве иные барды пели, а в поставленную хозяевами в прихожей вазочку собравшиеся складывали — кто рублевку, кто пятерку, и не было в том «заработке» для бедняги барда ничего зазорного, непотребного, отнюдь... Но Галич... Но Александр Аркадьич... Когда он, скинув свитер (в комнате жарко, душно: надышали!), оставался в рубашке, за столом, на котором среди стопок с коньяком (4.20 — бутылка армянского!), расставлены тарелочки с хлебом, сосисками и остатками винегрета, когда он протягивал руку и мягким движением, будто касаясь женской руки, обнимал шейку гитары,— тут исчезало все: и стол, и сосиски, и мы, дышавшие, сгрудясь, друг другу в ухо, в затылок... Страна была перед ним, Страна и История, и каждый, кто слышал его низкий, густой баритон, становился как бы значительней, сильнее, что-то распрямлялось внутри, растерянность сменялась жесткой иронией, брюзжание — гневом. Он пел подолгу, далеко за полночь, будто делал какую-то необходимую работу, и все в ней срасталось — вдохновение, радость, долг...