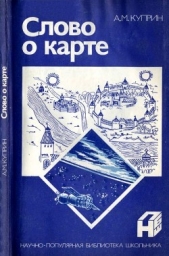Раскрепощение
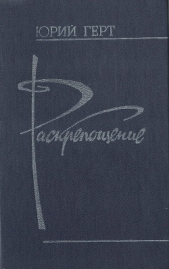
Раскрепощение читать книгу онлайн
Предлагаемая книга - целостное, внутренне последовательное повествование о происходившем в стране, начиная с тридцатых годов двадцатого века и кончая началом девяностых годов. Автор не экономист, не историк, а писатель, его внимание сконцентрировано на людях, с которыми его сводила судьба. В первой части публикуются воспоминания врача В. Г. Недовесовой о Карлаге, о репрессированных ученых, Чижевском, Белинкове. Во второй части рассказывается о Казахстане 60-х годов, трудовом и литературном. Это, с одной стороны, Казахстанская Магнитка, с другой, журнал «Простор», объединяющий в себе лучшие литературные имена — Шухова, Домбровского и других.Третья часть — осмысление писателем событий сегодняшнего дня, когда происходит воскрешение творчества Магжана Жумабасва, Анны Никольской.В книге широко использованы письма, документы, мемуары.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
— А как же... Говорила, и много раз: если тебе поддержки от начальства нет — оставь свои затеи, никакого толку не добьешься! А он: «Все равно буду продолжать! Потому как в одном спасенье — в моей системе!..»
В том-то и дело, что это была не частность, не какое-то единичное усовершенствование — систем а. То, чего добивался, о чем мечтал Иван Никифорович, включало многое. Увеличение производительности труда — и рост зарплаты, количества товаров, снижение их себестоимости. Появление «лишних рук» на практике означало: благодаря возросшему заработку мужа и социальным ассигнованиям женщина в отдельные периоды жизни может посвящать себя дому, воспитанию детей. Система предусматривала роспуск армии контролеров, понукателей. Прямую заинтересованность управляющих — не в расположении начальства, а а конечных результатах общего труда. В оздоровлении морали, возвращении общества к естественным для социализма нормам отношений между людьми, поскольку единственной мерой, масштабом человеческой личности станет труд.
Это была система, центром которой был человек свободны й. Но чтобы понять, а главное — на практике утвердить идеи Худенко, нужно было новое мышление.
Он был его предтечей, «одним из...» Одним из тех,, кто приходит слишком рано («преждевременно», по терминологии эпохи застоя) и кому, в соответствии с обычаями и нравами, то, как Иоанну Крестителю рубят голову, то всаживают без суда и следствия в застенке пулю, то — по судебному приговору — предоставляют право умирать в лагере или тюрьме... Это случается прежде! чем приходит их, а вместе с тем и наше время... Но кто знает, возможно, без них оно не пришло бы никогда...

III
ВОСКРЕШЕНИЕ
1
Историкам с абсолютной точностью известно, где, когда, в какой день и час, в какую минуту началась Октябрьская революция или Великая Отечественная война. Но если спросить о том же современников, участников грандиозных, всемирных событий, спросить, когда и как оно, это событие, возникло для тебя, коснулось тебя лично, каждый ответит по-своему.
Я в точности помню, когда началась для меня Перестройка. Это случилось в Москве, у кинотеатра «Россия». До того мы с женой сидели в огромном, переполненном людьми зале и два с половиной часа не отрываясь смотрели на экран. И весь зал — москвичи и приезжие, студенты и пенсионеры, военнослужащие, получившие краткосрочный отпуск, и домохозяйки с продуктовыми сумками, пристроенными на полу, между кресел (сеанс был дневной),— все смотрели на экран не шевелясь, казалось — не дыша... Потом экран погас, вспыхнул свет. В распахнутые двери ворвался густой, обжигающий щеки воздух. Мороз жал к тридцати. На площади Пушкина жестко скрипел снег, поджидающие «лишний билетик» приплясывали, постукивали нога об ногу, мохнатый январский иней обметал воротники, бороды, ресницы. А мне казалось — вокруг весна.
Отчего же? И как это могло быть — после тяжкого, страшного фильма Тенгиза Абуладзе «Покаяние»? Где ни весны, ни соловьев, ни пробуждения от зимней спячки — боль, смерть, судьбы людей, заживо вмороженных в лед. Не экранные — наши судьбы. Тех, кто сидел в зале. Кто бежал, подгоняемый морозом, по площади. Судьбы тех, кого давно уже нет...
Отчего же — весна?..
Ведь все это уже было, было... Недолгая оттепель.
Солнце, сверкающие сосульки весело, с грохотом рушатся с крыш. И вот-вот растают навсегда снега, в журчащие ручьи превратится лед, голубые брызги фиалок украсят землю... Известно, чем кончились эти надежды. За оттепелью наступил гололед. Многие падали, расшибали лбы, другие привыкли к мелким шажкам, осторожной походочке... Так вот и семенили, балансировали, чтобы не упасть,— и не год, не два, по сути — всю свою зрелую жизнь: двадцать лет... Так что — все уже было, и нет ничего нового под луной. Трудно поверить, но именно это сказал мудрый Екклизиаст — не теперь, а еще две с половиной, (а то и больше) тысячи лет назад...
Так отчего же — весна?..
Не знаю, не знаю. Но именно так: не могилами пахло, не трупом, в один узел соединяющим сюжетные линии фильма, и не морозным, хрустящим под ногой снегом,— фиалками... Новой надеждой... Новой — или старой, не давшей себя истребить...
И была еще — странная, а может, и не столь уж странная мысль, зревшая где-то в душе подспудно, пока на экране сменяли одна другую сюр- (или супер-) реалистические фантасмагории, пока Величайший Тиран Всех Времен и Народов терзал и очаровывал, и тем больше очаровывал, чем больше терзал: именно там, в Грузии, должен был родиться этот фильм. Там, где до сих пор сохранился — единственный в стране — Музей... Хотя не меньше, чем в других местах, было растерзанных, но где, по мнению чрезмерно гордящихся собственной святостью, грехами же наделяющих только «чужих» — скопилась особенная вина перед всеми, как у матери, породившей злодея и убийцу... Грузинская земля дала миру Тенгиза Абуладзе. За смертью приходит воскресение. За зимой — весна...
Хотя началось все на самом-то деле немного раньше, до поездки в Москву месяца за два — за три, когда окончательно стало ясно, что «Никольская выходит...» Ах, нет, все это мистика, никто не выйдет, не восстанет из гроба, какое уж тут «воскресение». Помню серенький, сирый денек, чавкает под ногами грязь вперемешку с ломкими, хрусткими льдинками, тихо падают легкие, мелкие снежинки — и не тают на суховатом, строгом, неприступно сжавшем губы старушечьем лице бывшей дворянки, «смолянки» (как называли воспитанниц Института благородных девиц в Смольном), после убийства Кирова высланной из Ленинграда, брошенной, подобно сотням тысяч, за колючую проволоку, но, в отличие от сотен тысяч, написавшей впоследствии мемуарный роман — о лагере, лагерной жизни... Помню, там, на кладбище, проговаривая слова прерывистым, булькающим голосом, пушкинист Николай Алексеевич Раевский, сказал о ней: «великомученица...» Теперь, спустя столько лет, воскресла не она — ее книга. Желтую, как бы с налетом ржавчины, принес в редакцию «Простора» душеприказчик Анны Борисовны Никольской, профессор Александр Жовтис пухлую, многостраничную рукопись — ту самую, которую мы не сумели в шестидесятых, при Шухове, напечатать в журнале. И пока готовили ее, пока ее заново перепечатанные страницы ходили по редакции, даже пока шла верстка — не верилось... Вот-вот, казалось, раздастся телефонный, как бывало, звонок, и начальственный рык, и за ним — расправа над недавно назначенным главным редактором Толмачевым. Но журнал вышел... «Никольская вышла...» И случилось это не в Грузии — в Алма-Ате.
Провинциальный парадокс?.. Или — символ нового времени?.. Письма идут — со всех концов страны, благодарят, вспоминают, просят немедленно сообщить адрес. «Московские новости», «Огонек», «Новый мир» — все пишут, хотя и как-то еще робковато, несмело, как бы с давнишней, неистребимой опаской, по принципу, в прежние годы взятому за правило: умный сам поймет, а дурак не догадается...
И вот — «Покаяние»! В сущности, о том же — но в Москве, при огромном стечении народа, в самом престижном кинотеатре страны! Значит, в самом деле — можно?.. Разрешено?.. О чем еще недавно — шепоточком?..
Скрипит снег, мороз, как молодой, резвящийся пес, играя, цапает за пальцы, за кончики ушей, а в воздухе пахнет фиалками, и в торопливой предвечерней толпе одной из бодро семенящих, но не ссутуленных жизнью старушек с прирожденной прямизной стана, и горделивой вскидкой головы видится мне Анна Борисовна Никольская — такой встречалась она когда-то на улицах нашей Алма-Аты...
И с тех пор началось для меня и длится по сей день — чудо воскрешения из мертвых. Когда-то мечтал Николай Федоров, но не как о чуде, а — как о неизбежном, необходимом — о воскрешении отцов. Анахорет, библиограф, чудак, последовательный в своем гениальном, пленявшем и Толстого, и Циолковского безумии, он понял главное: все люди — братья и сестры по единой судьбе, у всех впереди — смерть. И цель единая для всех — победа над, смертью, ее одоление. Многое, что представлялось в прошлом тусклому, на коротеньком поводке живущему разуму несбыточным, фантастичным, сделалось заурядным, вошло в быт. Как знать, не покажутся ли через какое-то время Станислав Лем и Николай Федоров такими же архаичными, как ныне — Жюль Верн?..