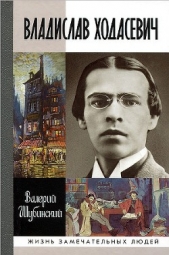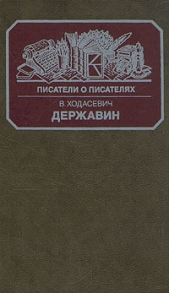Жизнь Владислава Ходасевича

Жизнь Владислава Ходасевича читать книгу онлайн
И. А. Муравьева обратилась к личности Владислава Ходасевича, поэта, резко выламывающегося из своей эпохи. Автор не просто перечисляет жизненные вехи Ходасевича, а пытается показать, как сформировался такой желчно-ироничный поэт, «всезнающий, как змея», видящий в отчетливом, суровом, самосознающем слове последнее прибежище «разъедающей тело» души среди российской «гробовой тьмы» и «европейской ночи». И как этот скептик и циник мог настолько преображаться в своих великолепных книгах о Державине и Пушкине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Литературная страница «Дней» делалась на весьма высоком уровне. Сразу видно, что ее редактировали профессиональные и умные писатели. Здесь печатали прозу Г. Иванов, Б. Зайцев, А. Ремизов, Соня Делонэ, сами Алданов и Ходасевич. Делались также наиболее интересные перепечатки из советской прессы (К. Федин, Л. Сейфуллина, О. Мандельштам, М. Зощенко и другие), печатались воспоминания, литературоведческие и исторические статьи. Ходасевич начал публиковать стихи молодых поэтов Д. Кнута, А. Ладинского, Н. Берберовой, М. Струве, а также стихи И. Одоевцевой, М. Цветаевой, Н. Оцупа и других.
Но эта работа — лишь до осени 1926 года, когда Ходасевич решается уйти из «Дней». Он так объясняет свой уход в письме к Айхенвальду от 28 октября 1926 года: «Я ушел из „Дней“, которые требовали от меня систематической перепечатки из советской литературы. Это превращалось в пропаганду, на которую я пойти не мог и вернулся в „Последние Новости“». Там он тоже не задержался надолго: 24 ноября Милюков возвратил ему очередную статью и, видимо, тогда же сказал ему, по воспоминаниям Берберовой, что он газете «совершенно не нужен».
И все-таки хоть какое-то время есть постоянный заработок. Они с Ниной переезжают в отдельную маленькую квартирку на улице Ламбларди, 14, близ площади Дюменвиль. Улица тоже небольшая и пустынная, захолустная, с высокими однообразными домами, похожими друг на друга. Рядом сумрачный, заросший городской сад, в другом конце улицы — площадь с фонтаном и скульптурными львами. «И от счастья, что у нас есть жилище, что мы можем запереть дверь, спустить шторы и быть одни, мы в первые дни ходим, как шалые». Они покупают два «дивана» — матрасы на ножках, четыре простыни; у них есть кастрюля и три вилки, так что, когда в воскресенье их навещает преданный Ходасевичу искусствовед и литератор Владимир Вейдле, можно оставить его обедать.
Отсюда отправлены последние письма Нюре — адресованные, чтобы замести следы и не причинить ей неприятностей, — Софии Бекетовой (ее литературный псевдоним) и подписанные «В. Медведев» (вспомним старое домашнее прозвище Ходасевича!). В качестве обратного указан адрес Соломона Познера: 280, Bd. Raspail, chez S. Posener; но тут же, внутри письма, сообщается на всякий случай адрес «бывшего супруга»: 14, rue Lamblardie Paris.
Именно в это время, прекратив переписку с Нюрой даже под именем «Софии Бекетовой», Ходасевич окончательно формулирует для себя в письме Михаилу Карповичу, живущему в США, причины невозможности вернуться на родину. Дело даже не только в том, что его систематически обругивают в советской прессе и навряд ли будут печатать, если он, паче чаяния, вернется, а вот в чем: «Вы говорите: я бы вернулся, „если б была хоть малейшая возможность жить там, не ставши подлецом“. В этом „если бы“ — самая святая простота, ибо ни малейшей, ни самомалейшей, никакой, никакейшей такой возможности не имеется. Подлецом Вы станете в тот день, когда пойдете в сов<етское> консульство и заполните ихнюю анкету, в которой отречетесь от всего, от себя самого. (Не отречетесь, так и ходить не стоит)»…
Итак, улица Ламбларди. Нищета, конечно, судя по воспоминаниям Берберовой, кромешная, все еще непривычная. Но и привыкнуть к ней, видимо, невозможно. Хуже другое — мысли о самоубийстве все чаще приходят в голову Ходасевичу, Берберова боится оставить его одного больше чем на час. Главное — это его самоощущение, давно вызревавшее: страх перед жизнью, нежелание ее продолжать. Но — продолжал, пусть с отвращением. Он был связан с Ниной, он любил ее, он чувствовал себя ответственным за нее, хотя так мало мог для нее сделать. А она… Страх перед жизнью, перед тем, что обстоятельства оказались сильнее нее — она, сильная женщина, молодая и полная жизни, к этому не привыкла, это ее тяготит…
Они прижимались друг к другу, как двое напуганных детей. Ходасевич боялся еще, по словам Берберовой, грозы, пожара, землетрясений… Нервы были так обострены, что он чувствовал — на другом конце земли происходит землетрясение, и они действительно узнавали об этом на следующий день из газет. Все эти страхи свидетельствовали о сильнейшей неврастении.
«Страх его постепенно переходит в часы ужаса, и я замечаю, что ужас этот по своей силе совершенно непропорционален тому, что его порождает. Все мелочи вокруг начинают приобретать космическое значение. Залихватский мотив в радиоприемнике среди ночи, запущенный кем-то назло соседям, или запах жареной рыбы, несущийся со двора в открытое окно, приводит его в отчаяние, которому нет ни меры, ни конца. Он его тащит за собой сквозь дни и ночи. И оно растет, и душит его. <…> Он все беззащитнее среди „волчьей жизни“».
Он спасается от себя и от «волчьей жизни» за картами и в частых разговорах с людьми, пусть иногда и поверхностных.
В Париже все-таки много «своих», не всегда милых сердцу, но все равно есть с кем поговорить. Тот же Вишняк написал о нем, что он «от природы был существом недостаточно социальным: в нем было нечто от „Человека из подполья“». Но Ходасевич от общений, во всяком случае в двадцатые годы, не уклонялся, он шел на люди, даже когда было особенно плохо. Если заглянуть в его «Камер-фурьерский журнал», там нет ни одного дня, если он, конечно, не болеет, без встреч с приятелями и литераторами, как правило несколькими. Это жизнь на людях — в кафе, редакциях, просто на улицах — прогулки с собеседниками. Как это уживалось в нем: «Человек из подполья» — и постоянные общения с разными людьми? Видимо, ему все труднее было оставаться наедине с самим собой, хотя для поэта это всегда неизбежно, необходимо. Берберова писала: «Он уходит иногда на весь день (или на всю ночь) в свои раздумья, и эти уходы напоминают мне его „Элегию“ — стихи 1921 года о душе:
Он возвращается „в свое ничтожество“, то есть к себе домой, ко мне, к нам…»
Но было и еще одно, что вырывало его из «подполья», заставляло вступать в литературные схватки: его критический дар и темперамент, его стремление установить истину, его правдолюбие. По словам Вишняка, «…он был правдолюбцем; того больше — борцом за правду в искусстве и литературе, в личных отношениях и общественных.
Оспорив даже Пушкина — свой кумир: „Истина не может быть низкой, потому что нет ничего выше истины“. <…> И Ходасевич сам никогда не соглашался с тем, что мир не выносит правды; он наотрез отказывался преклоняться перед чьим-либо авторитетом или „гением“. Это было одной из наиболее характерных и ярких черт Ходасевича, мне всего более в нем созвучной и привлекательной».
И при этом «Ходасевич бывал очень пристрастен — и лично, и профессионально». Это означало — и мы не раз обнаруживаем это в его статьях, — что он бывал очень часто и резко несправедлив и отстаивал свои несправедливости, свое раз навсегда установившееся мнение со свойственным ему пылом, гневом и упрямством, но при этом был искренен в своих заблуждениях и чувствовал себя правым. Георгий Иванов, в эмиграции вечный антипод Ходасевича, в поздних письмах к Роману Гулю, в то время сотруднику «Нового журнала», писал (10 мая 1955 г.): «Смеялись ли Вы, читая душку Ульянова, умилившегося над беспристрастием Ходасевича. Я смеялся и грустил. Вот как на глазах меняется перспектива. Сплошная желчь, интриги, кумовство (и вранье в поддержку этого), каким, как я думаю, вам известно, был покойник, стал (и для такой умницы, как Ульянов) этаким „аршином беспристрастия“!»
Да, Ходасевич бывал, как уже сказано, пристрастным, желчным и несправедливым, но все это возникало по убеждению, но никак не из «кумовства»! Иванов, как всегда, сильно привирал, когда дело касалось его литературного врага — свидетелей беспристрастности Ходасевича гораздо больше! Он бывал несправедлив всегда по убеждению, по вере в свою истину, а истина была для него превыше всего, как мы знаем.