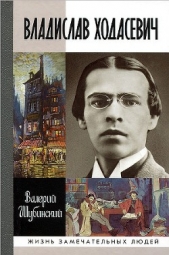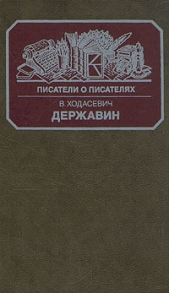Жизнь Владислава Ходасевича

Жизнь Владислава Ходасевича читать книгу онлайн
И. А. Муравьева обратилась к личности Владислава Ходасевича, поэта, резко выламывающегося из своей эпохи. Автор не просто перечисляет жизненные вехи Ходасевича, а пытается показать, как сформировался такой желчно-ироничный поэт, «всезнающий, как змея», видящий в отчетливом, суровом, самосознающем слове последнее прибежище «разъедающей тело» души среди российской «гробовой тьмы» и «европейской ночи». И как этот скептик и циник мог настолько преображаться в своих великолепных книгах о Державине и Пушкине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
В это время, впадая в отчаяние, все яснее сознавая, что в Россию не вернуться, Ходасевич пишет Нюре, чтобы она расторгла их гражданский брак:
«Подай заявление. <…> Это необходимо для тебя. <…> Церковного не трогай, фамилию Ходасевич оставь за собой. <…> Надо, чтобы ты от меня отмежевалась в гражданском смысле, надо для тебя».
Из Парижа они отправились в Ирландию, поскольку жить было совершенно не на что, — по приглашению двоюродной сестры Нины Наташи Кук, вышедшей замуж за англичанина, — в его огромный дом, почти настоящий замок, где прожили конец лета и осень. Ходасевич пишет в это время Нюре: «То, что я писал о прокормлении, не убедительно для тебя, но, к сожалению, весьма убедительно для меня». «Писать много я не умею, а если бы и умел — негде печатать. Кроме того, меня подвела „Беседа“, должна мне 15 фунтов, а заплатить не может. Кроме того, доходная работа здесь в том, чтобы писать о политике (в черносотенном духе), а я пишу о Пушкине, это товар не ходкий». «Сейчас как раз такой момент, когда я продал все — вперед на два месяца и должен перейти на подножный корм, который мне предложили в Ирландии. Иначе я не мог бы тебе послать ничего и сам два месяца питался бы воздухом».
Гершензону Ходасевич писал из Ирландии, 6 августа 1924 года: «<…> Дом — огромный, на краю маленького приморского городка. Большой сад, много комнат, крахмальные салфетки, автомобиль, к обеду люди переодеваются. Из окна — залив и невысокие горы, немножко похоже на Крым возле Феодосии. Тихо до странности, очень зелено, поминутно то дождь, то солнце. Кажется, примусь за стихи, которые весь год писал очень мало. Я все сидел за „Поэтическим хозяйством Пушкина“». Из Ирландии Ходасевич послал Гершензону в Москву стихи, написанные еще в Париже, — «Хранилище».
Гершензон ответил из Москвы 14 августа по поводу этих стихов: «Ваши стихи очень хороши, и вы понимаете, как близки мне; стих: „Претит от истин и красот“ я мог бы взять эпиграфом к своим письмам „из двух углов“». А Ходасевич комментировал: «Последние стихи, посланные Гершензону, из Ирландии. Я знал, что ему понравится». Стихи, действительно, были в духе Гершензона, в духе их обоих: этакая усталость от обесценивающейся культуры, от избитых, вечно одних и тех же истин…
В Ирландии ему было неуютно, как, впрочем, неуютно и во всем остальном мире: чужой, хоть и комфортабельный, дом, чужая жизнь. Кроме того, здесь почти все время шел дождь, обычный в это время года в Ирландии, было холодно, и Ходасевичу казалось, что выгляни солнце — и полегчает на душе. Но это был самообман. Тяготила неизвестность, неясность — куда дальше, что дальше…
И опять — возврат в Париж, уже ненадолго. Надо окончательно на что-то решаться. В это время Ходасевич, по словам Берберовой, полностью осознал, что в Россию уже не вернуться никогда и что скоро его перестанут там печатать совсем.
Он узнал, как пишет Берберова, что его имя было в списке на высылку в 1922 году из России на «философском пароходе» — на самом деле это не соответствовало действительности, теперь опубликованы архивные данные на этот счет. Это сведение, пишет Берберова, «зачеркнуло возможность возврата домой и начертило первый рисунок будущего. Холодом повеяло от него. Первый сквозняк страха подул над нами и приучил очень скоро ниоткуда не ждать „сладкого кусочка“. Помню одну бессонную ночь, может быть, это была последняя ночь перед отъездом в Сорренто (этот отъезд был отсрочкой неизбежного): Ходасевич, изможденный бессонницами: „Здесь не могу, не могу, не могу жить и писать, там не могу, не могу, не могу жить и писать“. Я видела, как он в эти минуты строит свой собственный „личный“ или „частный“ ад вокруг себя и как меня тянет в этот ад, и я доверчиво шла за ним, как Товий со своими рыбами. Я леденею от мысли, что вот наконец нашлось что-то, что сильнее и меня, и всех нас. Ходасевич говорит, что не может жить без того, чтобы не писать, что писать может он только в России, что он не может быть без России, что не может ни жить, ни писать в России — и умоляет меня умереть вместе с ним».
При этом денег, чтобы жить дальше в Париже, нет вовсе, заработки, по словам Берберовой, эфемерны. Но возврат в Россию все равно уже невозможен.
Поездка на зиму в Сорренто, к Горькому, была в этот момент чем-то спасительным. Он по-прежнему усиленно звал их к себе. 10 августа 1924 года он писал в Ирландию весьма приветливо: «<…> Будьте здоровы, дорогой друг! У нас завелся телескоп, черт его возьми, все мои сидят на крыше и глазеют на Марс. <…>».
21 августа: «Квартира у нас до 15 ноября. На днях уезжает Зиновий Пешков с дочерью и освободятся две комнаты. Затем, наверное, уедет жена Ивана Вольного с сыном — и будет еще одна комната. Значит, место для вас будет и, думаю, достаточно изолированное. <…> Вы приедете к сбору винограда».
11 сентября, в Париже, Ходасевич получает письмо от Нюры с просьбой прислать денег. Денег нет совсем. Он, как пишет сам, «в ужасе» от того, что не может выполнить ее просьбу: он по-прежнему чувствует себя ответственным за нее, обязанным обеспечивать ее жизнь…
Перед отъездом из Парижа к Горькому, 30 сентября, Ходасевич пишет Нюре: «Еду, впрочем, не для „туризма“, а для пропитания. Если бы ты знала, в какой ужас приводит меня одна мысль о железной дороге. <…> Поэтому по мере сил буду стараться остаться в Париже». И позже: «Пишу из Рима. Завтра утром еду в Сорренто. А<лексей> М<аксимович> будет меня кормить, пока я немного окрепну с деньгами». (В дальнейшем ему с помощью Горького удается пересылать кое-какие деньги Нюре в Россию.)
И вот они с Ниной в Сорренто, на вилле, снятой Горьким, «Иль Сорито». Отношения с Горьким — самые дружелюбные. И жизнь в Сорренто по-прежнему весела, шумна и уютна, как всегда бывало в доме Горького. Они — в семье, они — за общим обеденным столом, где всегда много разговоров, шуток. К комнате Ходасевича примыкает балкон с видом на Везувий.
Впрочем, не всегда с Горьким легко. Павел Муратов как-то, придя в гости, читал в гостиной свою легкую, остроумную комедию «Дафнис и Хлоя», которая так раздражила Горького, что он «весь покраснел и забарабанил пальцами по столу, книгам, коленям, молча отошел в угол и оттуда злобно смотрел на всех нас». Так бывало не раз…
Максим, сын Горького, купил мотоциклетку, на которой без конца предлагал всем прокатиться. Она проникла в «Соррентинские фотографии» Ходасевича, начатые в Сорренто и законченные уже под Парижем. Кстати, Максим увлекался и фотографией, и центральный образ стихотворения: негатив, на который по ошибке снято что-то еще, в результате получилась двойная экспозиция, и аналогия его с человеческой памятью — тоже навеян этими фотографическими опытами. Это были, наверное, первые стихи в таком духе — позже многие поэты будут эксплуатировать мотив фотографии, в том числе и двойной экспозиции, но так, как Ходасевич, в таком повороте совмещения разных пластов действительности и запредельности, — этого не сделает никто. Он сам постоянно живет в этих двух пластах. Прошлое не оставляет его, и сквозь блистающую средиземноморскую красоту окружающего проглядывает то убогий московский дворик, то бедные похороны мужа прачки, то еще что-то отнюдь не забытое. И над всем этим — наивная раскрашенная Мадонна соррентийской религиозной процессии накануне Рождества («Мадонна, улыбнись ему»), как нечто всепримиряющее и всепрощающее…