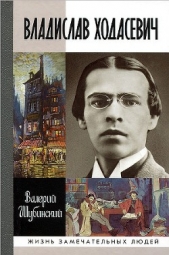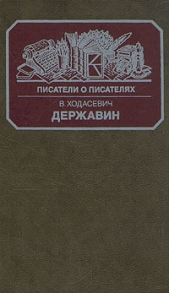Жизнь Владислава Ходасевича

Жизнь Владислава Ходасевича читать книгу онлайн
И. А. Муравьева обратилась к личности Владислава Ходасевича, поэта, резко выламывающегося из своей эпохи. Автор не просто перечисляет жизненные вехи Ходасевича, а пытается показать, как сформировался такой желчно-ироничный поэт, «всезнающий, как змея», видящий в отчетливом, суровом, самосознающем слове последнее прибежище «разъедающей тело» души среди российской «гробовой тьмы» и «европейской ночи». И как этот скептик и циник мог настолько преображаться в своих великолепных книгах о Державине и Пушкине.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Но когда он смотрит на людей, на малых мира сих, измученных, обездоленных жизнью и даже до конца не сознающих этого, смиренных, нотки жалости и сочувствия звучат сквозь возмущение несправедливостью и пустотой жизни. Может быть, здесь сказывалась свойственная ему «жалостность», отмеченная Берберовой и Вейдле. Здесь уже нет такого раздражения — только боль и отчаяние. Такова «Баллада».
И поэт разгоняет ременным бичом ангелов, спокойно, по-видимому, глядящих сверху, и подходит к безрукому.
«Блаженны нищие духом, ибо их есть Царствие Небесное», — вспоминается стих из Евангелия. Безрукий смирен и безгрешен, и «нищ духом». Но за что ввергли его в эти муки жизни, в войну, которая ему и никому не нужна? Так надо, так все устроено? Он сам даже не задумывается над этим. И какая непроходимая пропасть между ним и надменным поэтом, которому «ангел лиру подает»! Почему все так устроено? Это бунт, но на основе его объявлять Ходасевича в конце жизни неверующим, как это делает И. Сурат, все-таки не стоит.
Рука, потерянная солдатом на войне, правая рука, не дает Ходасевичу покоя. В «Джоне Боттоме», написанном размером английской баллады, поскольку убитый солдат похоронен в английской земле, в Вестминстерском аббатстве, она и вовсе потеряна, ее и после смерти не найти… К телу Джона-портного приложили чужую руку:
А Мэри, его жена, все горюет о том, что нет и могилы Джона, некуда ей пойти.
А когда Джон, видя с небес страдания жены, хочет уйти из рая и явиться ей в виде призрака, сообщить, что он лежит там, в той могиле, но с «постылою рукой», его не выпускают из рая. Так эта маленькая жизнь — две жизни — растоптаны и после смерти, несмотря на пребывание Джона в Царствии Небесном…
Вся эта мировая несправедливость гнетет Ходасевича все больше.
По-прежнему мешают и постоянные болезни: весной 1926 года у Ходасевича снова начинается сильнейший фурункулез, который так мучил его в Москве летом 1920-го. Он пишет в конце августа Зинаиде Гиппиус, отношения с которой были в это время еще весьма приличными: «Милая Зинаида Николаевна, я себя так дурно чувствую (опять фурункулез), что ответ на Ваше письмо о Мельгунове третий день лежит на столе не конченный. <…> …если б Вы знали, в какое состояние я прихожу, когда нарывает: ведь это, на моем веку, уже третья сотня фурункулов. Я имею право на „нервы“». Нюре в одном из последних писем в СССР, 15 июня 1926 года, он писал: «Фурункулез мой кончился, но я пролежал, с небольшими антрактами, полтора месяца. Вылечился в пастеровском институте вакциной. Было нарывов штук за пятьдесят, некоторые с температурой».
С помощью Ходасевича в «Возрождение» хотели попасть и стать там влиятельными сотрудниками Мережковские… В их сотрудничестве был заинтересованы в ту пору и Маковский, и Семенов, главные лица «Возрождения».
Глава 11
«Мерезлобины»


Дмитрий Философов, Дмитрий Мережковский, Зинаида Гиппиус, Владимир Злобин 1919–1920 годы
Так, не без яда, называли в литературных кругах семью Мережковских вкупе с их секретарем Владимиром Злобиным, который жил в их доме.
Зинаида Николаевна поражала тех, кто ее давно не видел или видел вообще впервые, своей моложавостью. Все те же прекрасные рыжие волосы, все та же удивительная стройность — все, как в Петербурге когда-то. Только волосы чуть потускнели, да глаза она стала прищуривать чаще обычного, словно стараясь разглядеть вдали что-то невидимое. Со зрением у нее действительно стало хуже…
Все так же восседала она у себя в гостиной или в салоне Винаверов и других залах на различных докладах, не пропуская ничего интересного.
— Они интересуются интересным? — по-прежнему спрашивала она про новых людей, все так же произносила свою оценку — неторопливо и веско, словно последний приговор. Ее по-прежнему побаивались.
Георгий Адамович вспоминал о ней:
«Если бы у меня не было уверенности, что личность Зинаиды Николаевны была более своеобразна и замечательна, чем ее книги, то должен был бы я ограничиться критическим очерком, посвященным ее литературной деятельности. Но <…> Гиппиус была писательницей, но не только писательницей, а еще и какой-то вдохновительницей, подстрекательницей, советчицей, исправительницей, сотрудницей чужих писаний, центром преломления и скрещивания разнородных лучей, и эта ее роль, пожалуй, важнее ее литературных заслуг. <…>