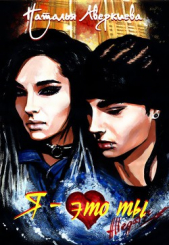Агнесса
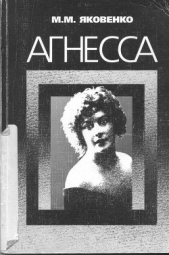
Агнесса читать книгу онлайн
Устные рассказы Агнессы Ивановны Мироновой-Король о ее юности, о перипетиях трех ее замужеств, об огромной любви к высокопоставленному чекисту ежовских времен С.Н.Миронову, о своих посещениях кремлевских приемов и о рабском прозябании в тюрьмах и лагерях, — о жизни, прожитой на качелях советской истории.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
И вдруг ее осеняет:
— Он мне говорил, что дружил с Гитлером!
Ну уж тут — дальше некуда. Судья смутилась: «Садитесь, садитесь, свидетельница!»
Такая комедия была на суде… Но миновали двадцатые годы, когда Зарницкий умом и логикой сумел победить все нелепые обвинения. Теперь, какими бы кричащими ни оказывались нелепости, победы быть уже не могло. Михаила Давыдовича надо было засудить, еще до начала суда решение о нем было принято. Приговор: десять лет лагерей строгого режима.
Зимы в Северном Казахстане лютые, ветры страшные. 14 декабря 1957 года Михаил Давыдович записал в своем дневнике:
«14 декабря — дата в моей жизни. В этот день меня изувечили и довели до такого состояния, в котором я нахожусь. Грудная жаба и гипертония делают свое дело… После шести с половиной месяцев тюремного заключения, голодая и холодая в сырых камерах, я был перевезен в „столыпинском“ вагоне в Караганду. Поезд пришел ночью 11 декабря.
Утром нас повезли в „воронке“ в лагерь — Новый Майкадук — и поместили в БУР (барак усиленного режима), который почти не отапливался. После трех суток такого содержания нас вывели из лагеря и погрузили в открытую грузовую машину… Сколько градусов мороза было, я не знаю, но не менее тридцати.
Не менее трех часов добирались мы до Спасска… Когда прибыли, я не мог сойти с машины. Меня сняли и поволокли. Ночь провели в бане. Я отогрелся, но был „испорчен“.
Когда меня перевели в барак, я все время лежал. Мне было холодно, я никак не мог согреться. Фельдшер, обходивший бараки, заметил меня и повел в амбулаторию: давление у меня было 240/120».
Михаил Давыдович долго лежал в полустационаре. Ну, что такое полустационар, я хорошо знаю: и какие там доходяги бывают, и сколько каждое утро выносят трупов, чтобы где-нибудь поблизости сложить штабелями… Все это я видела, могу себе представить.
Как только Михаил Давыдович смог писать, он послал открытку. Она начиналась: «Дорогая моя!» Открытка была адресована мне, но я прочла Майе и Бруше «Дорогие мои!», чтобы им не было обидно… Там была такая фраза: «Теперь смогу написать только через полгода…» — это потому, что в «режимном» лагере можно было писать и получать письма только два раза в год.
У Вали Шефер — помните, я вам рассказывала, как врачи спасли ей жизнь ценой инвалидности, как она ногами заплатила за свою жизнь? — у Вали был родственник, а у него в ста с небольшим километрах от Москвы, в Богородске, — дача, где Валя и жила, потому что с ее волчьим паспортом ей не разрешалось жить ближе к Москве. На даче было несколько комнат, и я поселилась там. Агуля училась в Москве, жила в общежитии. Я поступила работать — вела занятия музыкой в детском саду. Заработок — считайте, что никакой, едва-едва на хлеб хватало.
Зимой 1952 года началось «дело врачей». Мы, как услышали о «кремлевских отравителях», сразу сникли. Ну, думаем, опять начнется, будут хватать и сажать с удвоенным рвением.
И вдруг узнаем по радио — Сталин болен! Ну уж раз у нас об этом сообщили, значит, дело идет к тому, что… мы и верить не смели! Он — и отец всего прогрессивного человечества, и великий вождь мирового пролетариата, и великий ученый, и гениальнейший, и… ну, так и думали — бессмертный!
Но читает Левитан скорбно… бюллетени! Теперь мы уже радио не отключали, с жадностью ловили каждое известие: «Упадок сердечной деятельности… дыхание Чейна — Стокса…» Неужели?..
И наконец! «ЦК с прискорбием сообщает, что сегодня в пять часов столько-то минут утра при явлениях острой сердечной недостаточности и т. д.»… Скончался!
Я схватила метлу и давай выплясывать канкан. И Валя пустилась бы в пляс, если бы не ноги; она только притоптывала в восторге и напевала.
И вдруг — стук в дверь. Открываю. Соседка из ближайшего дома, лицо опухло от слез, глаза красные:
— Какое несчастье! Какая беда для всей страны! Что мы теперь будем делать? Как мы сможем жить без него? Все пропадет, все рухнет, враги нас задавят! Любимый наш, дорогой наш… — И в слезы.
Мы сделали постные лица, поддакивали ей. Слава Богу, окно было высоко над землей — она не могла видеть, как я отплясывала.
А затем хлынули письма от Михаила Давыдовича — это был разлив, половодье писем. Режим пал, теперь уже можно было писать сколько угодно. Настрадавшись, намолчавшись за годы режимного лагеря, Михаил Давыдович спешил рассказать, поделиться с нами… Иногда он писал по нескольку писем в день, и чаще всего цензура их уже не проверяла.
Михаил Давыдович жил в бараке с такими же инвалидами, как и он сам, на работы не ходил. Он был болен, но радость ожидания счастья перекрывала все его недомогания…
Радость ожидания! Могли ли мы думать тогда, что она превратится в пытку? Что целых три года свобода будет только дразнить, не даваясь в руки! Чего только не было! Михаила Давыдовича актировали, а потом отменяли актировку [10]. В 1954 году он написал заявление Генеральному прокурору СССР; одновременно написала и Бруша. Был получен ответ, что дело Михаила Давыдовича пересмотрено, наказание снижено до пяти лет, следовательно, он подлежит амнистии со снятием с него судимости. Такое решение означало немедленное освобождение. Но в Спасский лагерь это решение все почему-то не доходило. Только в конце года Бруше сообщили, что постановлением Верховного суда Казахской ССР (но почему Казахской, если вопрос был уже решен в Москве?) с Михаила Давыдовича сняты обвинения в групповой агитации и десятилетний срок ему снижен до шести лет! До шести! А это означало, что Михаил Давыдович не подлежит амнистии и ему остается «досиживать» еще больше года. А потом что? Опять ссылка, опять Явленка?
Затем был указ об освобождении инвалидов и больных. Их должны были направить в дома инвалидов, а направили на работы в совхоз, так что, слава Богу, этого Михаил Давыдович избежал.
По первому делу (участие в заговоре Гамарника) он был реабилитирован, а по второму («глупая и безграмотная провокация», как говорил о нем Михаил Давыдович) разбирательства так и не было.
Михаил Давыдович писал мне:
«Скажу тебе глубокую правду: освобождение меня измучило, отняло у меня сердце и нервы. Я стараюсь не думать о ненавистной свободе, считаю свою жизнь нормальной арестантской жизнью. Но не удается. Тянет к вам, а это тяжело…
Я тебе перестал писать задушевные письма, как писал раньше, и это все от освободительной пытки. Я уверен, что стоит мне сойтись с тобой, и я найду опять душевный покой, обрету работоспособность и радость, которые меня всегда поддерживали. Но, Господи ты мой, до какой степени трудно владеть собой!..
Еще говорят, что мы будем проходить суд для фильтрации. Я не верю в это. Они могут все сделать и без ритуала, заочно. Иногда спрашивают на суде, осознал ли человек свою вину. Если мне зададут этот вопрос, я никуда не поеду».
Михаил Давыдович во всем этом видел происки областного прокурора Жигалова, его личную месть за умственное превосходство Михаила Давыдовича, за его юмор на допросах — чего малокультурный, чувствующий свою неполноценность Жигалов простить ему не мог.
И вот наконец-то!
«10 января 1956 года.
Моя милая Агочка! Я еду в Москву! Мне сообщили определение Верховного суда и выдали справку, что „дело пересмотрено за отсутствием доказательств состава преступления“. Мне выдали паспорт. Уже сфотографировали.
Я ждал отправления в Явленку под конвоем, и вдруг такой поворот!..
Через неделю я собираюсь обнять тебя, моя любимая, и больше не расставаться с тобой! Я верю, что мы начнем с тобой сызнова жить и обеспечим себя.
Но чтобы сильно не предаваться радости, я сдерживаю себя и жду новых осложнений и изменений».
Мы все встречали Михаила Давыдовича на вокзале: Майя, Бруша, его братья, племянники, родные, друзья.