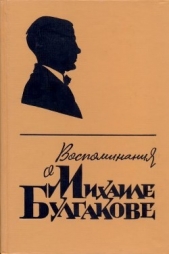О времени, о Булгакове и о себе
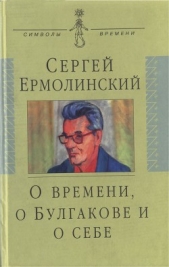
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Шмоны производились не реже чем раз в неделю. Шарили по нарам, заглядывали в задницы — все как положено. И тем не менее тотчас после шмона невесть каким образом снова появлялись карты, иголки, ножички для бритья и даже страшные ножи-самоделки. Не удивлюсь, если узнаю, что был тут тайный сговор с тюремщиками. Повторяю, уголовников побаивались. Они, если угодно, были нашим стражам свойские ребята, намного ближе по духу, чем «враги народа», вроде меня. В темном царстве действовал особый, никому не подчиняемый закон уголовного мира. Тут шла азартная игра в карты, проигрывали даже человеческую жизнь, убивали легавого и нельзя было доискаться, кто убил. Нашему брату здесь погибельно. Это я выскочил!
Не знаю, впрочем, долго бы еще продолжалось это мое удивительное положение? В конце концов, мог возникнуть ропот, почему я выделен в барины, могла возникнуть зависть — это ведь неизбежно при приближении к высшим сферам. А на воле разве не так?
Кончалась зима, был, по моим расчетам, февраль, как вдруг меня вызвали на допрос, а я уже как-то свыкся с мыслью, что обо мне забыли. Оказывается, не забыли, а потеряли.
Я сидел в каменной каморке у следователя, постарше годами и званием моего голубоглазого, и он мне сказал без обиняков:
— Знаете, в некоторой спешке при эвакуации не обошлось без накладок. Многих подследственных смешали с осужденными. Вот и вас мы не сразу нашли. Вы очутились в камере уголовных. Но сами понимаете — война.
Он говорил вежливо и доброжелательно, но я уже не верил ничему, ожидая подвоха. Однако начало было мирным и как будто не предвещало угроз.
— Вам выдадут книги, — сказал он. — Библиотека тут плохая, но все-таки… А от себя могу предложить вот это. — Он подал небольшой, в мягком переплете, русско-английский словарь. — Может, заинтересуетесь изучать.
— А в каком состоянии мое дело? — спросил я.
— Дело? — Он посмотрел на меня, немного подумал и ответил. — Мне кажется, оно в благоприятных обстоятельствах. — И с этими словами протянул мне знакомую, все такую же тоненькую папку.
— Ознакомьтесь и распишитесь.
Что же там оказалось, в этой папке? Ордер на арест, подписанный прокурором, рядом с его подписью закорючка Петра Андреевича Павленко. Затем шли бумажки — ходатайства голубоглазого о необходимости продления следствия с соответствующими положительными санкциями. Этих бумажек накопилось много. И, наконец, я прочитал довольно длинную «экспертизу» Всеволода Вишневского, в которой была охарактеризована моя деятельность, главным образом на кинофабрике Госкино («Мосфильме»), где я допускал на художественном совете антисоветские высказывания и препятствовал прохождению подлинно революционных произведений. В частности, он указывал на то, что именно по моему настоянию был отвергнут сценарий «Мы — русский народ». Написанное, заявлял я, еще не сценарий, а бесформенная патетика. Мое же творчество (это слово было взято в кавычки) представляет собой не более чем ловкое приспособленчество, скрывающее мое истинное лицо. Он приводил примеры, не припомню какие, из моих сценариев и моих выступлений. Многие строчки этой «экспертизы» были густо подчеркнуты красным и синим карандашами. Вслед за Вишневским неожиданно оказались показания Ильи Захаровича Трауберга, удивившие меня. Илью Трауберга, ленинградского кинорежиссера, вызвали в Москву и назначили начальником сценарного отдела нашей кинофабрики, там я с ним и познакомился. Он написал коротко, примерно так: «Знаю С. А. Ермолинского как высококвалифицированного сценариста, отличного работника и не сомневаюсь в его честности». Если припомнить те времена, то это был поступок на редкость благородный, причем поступок человека, никак не связанного со мной дружбой.
Перевернув последнюю страничку «дела», я с некоторым недоумением посмотрел на следователя.
— На предыдущих допросах, — сказал я, — моим следователем неоднократно упоминались свидетельства целого ряда лиц. Приводились слова, якобы сказанные мною, в которых я издевался над выборами в Советы («какие выборы, если один кандидат, бери и механически опускай бюллетень»); что известны мои ехидные насмешки над некоторыми деятелями искусства и литературы, которые готовы распластаться, лишь бы по головке погладили, Сталинскую премию выдали; что я глумился над произволом цензуры и т. д. и т. п. (Добавлю в скобках для читателей этих записок, что я мог высказывать подобные мысли и даже припомнить имена людей, которым или в присутствии которых высказывал их, но промолчу, потому что заодно с доносчиками легче легкого ошельмовать и безвинных людей. Закрываю скобки.) В Саратове же я подчеркивал другое. На каком основании, говорил я, мой московский следователь утверждал, что на квартире Булгакова происходили антисоветские сборища и я участвовал в них? У него, у следователя, грозился он, имеются показания моих близких друзей и друзей Булгакова, подтверждающие это. Где они?
Новый, саратовский следователь нахмурился. Однако же он и тут ответил мне без обиняков:
— Допускаю, что следствие располагало и такими показаниями, но не все показания, хотя и учитываются, прилагаются к делу.
— Понимаю. Тайные показания, — сказал я.
Он пропустил мимо ушей это мое замечание и сказал:
— А цензуры у нас нет. Это вы напрасно.
— Понимаю. А как насчет булгаковских сборищ?
— Это отпало, — чуть повысив голос, ответил он.
На этом разговор, скорее беседа, чем допрос, окончился. Но к уголовникам я уже не вернулся, я очутился в маленькой камере. Кроме меня там было еще трое: худой, изможденный, как оказалось позже литовец, он читал книгу, а на койке лежал мрачный черноволосый человек, не то еврей, не то армянин. Оба они хмуро, ничего не произнеся, посмотрели в мою сторону, а третий, помоложе их, белобрысый, сохранивший бодрость, тотчас накинулся на меня с расспросами, но сначала представился:
— Песочинский. Вы откуда?
Я отвечал кратко. Я научился относиться к людям с осторожностью, но зато он распахнулся сразу, со всей откровенностью:
— Это жаль, что вы не принесли никаких новостей. Нам известно, конечно, что немцы подбираются к Волге. Ничего в этом удивительного нет. Что уже давно произошла катастрофа, это только они не понимают.
Они — это, по Песочинскому, мы, русские, советские. Сокамерники — черноволосый и литовец — молчали. Должно быть, уже наслушались его речей, а кроме того, явно побаивались его; один читал, другой лежал, прикрывши глаза, лишь изредка приподнимал веки, желая рассмотреть меня.
— Бодрее, бодрее, господа, — говорил Песочинский. — Недолго осталось нам сидеть! — Он грыз сырую картофелину. — С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я их обвел вокруг пальца. Вот!
Сырая картофелина! Лучшее средство от цинги! А здесь, наверно, все болели цингой. Зубы у многих просто вынимались из десен. У меня были крепкие — они лишь пошатывались, правда, десны припухли и побелели, а на ногах появились нарывы. Сырая картофелина! Ее почему-то получал один Песочинский. Грыз ее и говорил:
— Надо уметь, а то сгниешь! Я не следователя, а врачиху охмурил. У вас, думаю, не получится. — Он произнес заборное слово из трех букв и плюхнулся на койку. — Ха! Врачиха раздела меня, увидела и… клянусь честью, если бы не вертухай за дверью, то…
Слушать это было противно. Все молчали. А он глядел в потолок и продолжал:
— Терпежу нет… Отсюда прямо махну в Москву… Немцы вмиг поставят Россию на ноги… Москва-а!.. Колокола!.. А ко мне буквально на карачках приползет одна известнейшая артистка императорского театра. (Он, подлец, назвал ее имя.) Они липнут ко мне…
— Замолчите, — сказал литовец.
— Ладно, ладно, — отмахнулся Песочинский, зевая. — Поспать, что ли?
Воцарилась тишина. Я тоже прилег, как и остальные. И здесь, в этой камере, бок о бок с этим циником, с этим хамом — не знаю, провокатором или фашистом? — в этом каменном мешке, я впервые услышал, как там, далеко, где-то на улице, солдатские голоса пели, и песня эта пронзила меня: