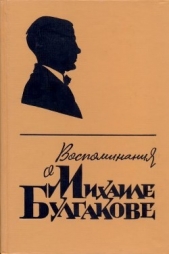О времени, о Булгакове и о себе
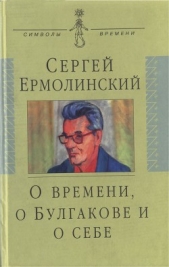
О времени, о Булгакове и о себе читать книгу онлайн
С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».
Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.
В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Нестерпимо стало на сердце! Обида, нет, злоба обожгла меня! Почему я нахожусь здесь? Почему меня вырвали из жизни? Я не хочу! Я не могу! Хоть колотись головой! Хоть бейся о камни! Господи, что делать?..
О, с какой ненавистью я думал тогда о своих тюремщиках. Словами Данте мог бы выразить эту ненависть: «Мучители, в чьем сердце минул последний стыд и все осквернено, зачем ваш род еще с земли не сгинул». Они осквернили Россию еще до прихода гитлеровцев! Россия в огне, а я бессилен, руки мои скручены. Не это ли мой самый страшный адов круг?
Дверь приотворилась:
— На допрос!
Я вскочил, но вызывали не меня, а Песочинского. Он лениво поднялся и не спеша вышел.
— Его часто вызывают, — сказал черноволосый и сел. — А ведь правда, что подходят к Волге.
— С нами, с нами-то что будет? — сказал литовец и уставился на меня светлыми, странновато-неподвижными глазами, озерная, водянистая прозелень словно виделась в них. — А вы кто? Вы, вы, вы откуда?
— Московский, — ответил я.
— А!.. Так же вот, как и Осип Ефимович, — кивнул литовец на черноволосого. — А я из Каунаса. Вы бывали в Каунасе?
— Нет.
— Ах, какой там был музей Чюрлениса! — И вдруг неестественно оживился. — Вы слыхали про Чюрлениса?
— У меня была небольшая монография, еще в дореволюционном издании Кнебеля, с репродукциями.
— Но он был не только живописец! Он был композитор. И так же, как художник, ни на кого не похожий! Если бы вы послушали его симфоническую поэму о рождении янтаря!.. — И зашептал, зашептал: — Знаете ли вы, что такое наш литовский янтарь?
— Но если немцы подходят к Волге, — сказал Осип Ефимович, — то с нами надо же что-то делать?
— Да ведь тя-анется! — вдруг очнулся литовец. — Но ведь справедливость есть? Свет, свет впереди есть?
— Ой, что вы! Если не расстреляют, то закруглят, — возбужденно заговорил Осип Ефимович. — По-быстрому закруглят, оформят и в лагерь! В лагерь, в лагерь! — говорил и говорил он. — Только в какой, куда? — И повернулся ко мне: — Слушайте, а у вас в каком положении?
Я хотел было ответить, но ввели Песочинского, и Осип Ефимович приподнял палец, сделав чуть заметное движение губами, чтобы я примолк.
Песочинский вошел в камеру по-хозяйски, сгримасничав, оглядел нас, достал начатую пачку «Казбека», чиркнул спичкой и закурил.
— Ничего папиросочки, довоенные. Уловил момент и смахнул со стола следователя. Он не заметил. Но вы бы видели, как он суетится! Знает, собака, что скоро посадят его на кол, если не успеет смыться. Да я бы его самолично пристрелил, только б представился случай! Они еще узнают, что такое Песочинский! — Он пыхнул ароматным дымом в сторону литовца.
— Вы хам! — вдруг вздрогнул тот.
— Тихо, тихо, тихо, — остановил его Песочинский, однако же не без испуга.
Но литовец отвернулся от него и опять словно выключился из жизни. Осип Ефимович уткнулся в книгу.
Песочинский разлегся на койке и продолжал:
— Сейчас главное — выжить. Вали подписывай любое, что подсовывают. — Он взглянул на меня. — Не имеет никакого значения. И вывезти не успеют. Армия-то разваливается. Пора бы давно. Здесь, на Волге, всю эту красную сволочь окончательно придушат… Выжить, выжить, другой задачи нет! Здоровье сохранить! — Он головой показал на литовца и покрутил пальцем у виска. — Нет, теперь уж ждать недолго.
— Заткните рот, вы мешаете читать, — сказал Осип Ефимович.
— Конечно, вам-то все равно. Немцы вас повесят, с жидами у них разговор короткий.
— Я сказал, заткнитесь! — вскочил Осип Ефимович. — Я инженер, но не забывайте, я начинал грузчиком в Одесском порту!
— Ой, ой, как страшно. Извиняюсь за «жида». Это так — нервы. Хочу сказать, что, с другой стороны, и большевики стали понимать, что такое евреи. Так что у вас положение незавидное.
— Сейчас я вам в морду дам! — Лицо интеллигентного Осипа Ефимовича пошло пятнами.
— Успокойтесь, — отмахнулся Песочинский. — В драку я не полезу, карцер мне не нужен. И вам тоже, между прочим. Не те силенки, чтобы валяться на каменном полу и хлебать воду. А разговариваю я не с вами, а вот… — Он повернулся ко мне.
— Но у меня тоже нет ни малейшего желания разговаривать с вами, — сказал я.
— Боже ж мой, какие все замордованные, — продолжал как ни в чем не бывало Песочинский. — Внутри-то со мной согласны, а притворяются, даже тут, в тюрьме.
Он говорил, а все угрюмо молчали, и остановить его было нельзя. Я опять задавал себе вопрос: кто он? Подсадная утка, которая должна была «расколоть» нас, чтобы мы стали «послушными на следствии», или просто распоясавшийся человек, который безнаказанно вываливал наружу все свои внутренности, потому что был уверен, что война проиграна и он расцветет при немцах… Впрочем (замечу в скобках), я наблюдал, как после войны такие типы, как Песочинский, понемногу расцветали и в наших условиях, да еще как расцветали! Не знаю, что с ним произошло в дальнейшем, но тогда, в камере, слушать его бессовестные высказывания, длившиеся часами, было поистине невыносимо. Словно издеваясь над нами, он жрал свои картофелины, курил следовательские папиросы и от рассуждений на общественно-политические темы переходил к циничным рассказам.
Литовец оставался безучастным, чаще всего находясь в блаженном отупении. Осип Ефимович с трудом сдерживался и только поглядывал на меня и начинал тяжело дышать, словно его удушала астма. Да и я чувствовал, что еле сдерживаюсь. А он, обращаясь ко мне, говорил:
— Вот вы литератор, вам может быть интересно. Был такой писатель Булгаков, его сейчас мало кто помнит. Написал всего одну пьесочку — «Дни Турбиных», про белых офицеров, в свое время модную. Потом вскоре умер. Понимаете? Этот писатель абсолютно не чувствовал ни обстановки, ни будущего — все время пальцем в небо!..
И это тоже я должен был терпеть. Не вступать же с ним в разговор, не объяснять же мне ему, кто такой Булгаков и о чем роман «Мастер и Маргарита». Я терпел. На допрос никого не вызывали.
Пробыл я в этой камере недолго. Меня вызвали «с вещами». Все всполошились, как это обычно бывает в таких случаях. Куда выводят человека? На свободу? В лагерь? На расстрел?
Меня перевели в одиночку.
А это что означает? Неужели снова Лефортово? Человек в черном халате, похожий на могильщика, такой же, как на Лубянке, словно вывезенный оттуда, принес мне книги. Я выбрал «потолще». Это был том Шеллера-Михайлова — роман «Гнилые болота». Я читал про каких-то людей-нулей и людей-деспотов и про ловких дельцов, в которых автор изображал нигилистов. Когда мне надоедало читать, я раскрывал англо-русский словарик, подаренный следователем, и старался запоминать слова: проверял, могу ли запомнить, не потерял ли память… Я больше лежал, потому что очень ослаб. На ногах мокли цинготные нарывы. Я знаю, что такое одиночка. Все то же. Невозможно вычислить, сколько времени находишься в этом промозглом погребе, неотличимо сливаются дни с ночью. В камере круглосуточно полутемно. Окно густо замазано синей краской, днем светился уголочек окна, находящегося под потолком, — кусок стекла был выбит, а ночью загоралась желтоватая, слабого накала, лампочка. Глазок редко приоткрывался. За мной перестали наблюдать. Два раза в день мне всовывали баланду, в которой было подмешано нечто вроде какой-то крупы и плавали селедочные объедки. Пайка состояла из сырого, глинистого мякиша весом не более двухсот граммов, а если больше, то ненамного больше. На прогулку я не выходил: мне трудно было встать. Это было большой ошибкой: во что бы то ни стало нужно было выходить на эти десять минут… И казалось, что обо мне окончательно забыли, хотя вдруг стали выдавать три сырые картофелины, дополнительное питание, подобно тому, какое получал Песочинский. Значит, кто-то обо мне подумал. Мои силы решили поддержать. Но зачем? Да и много ли значили эти картофелины? Через дежурного надзирателя я послал несколько записок следователю с просьбой, чтобы он меня вызвал, но вот…