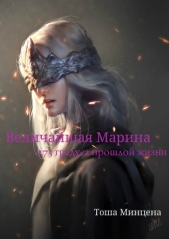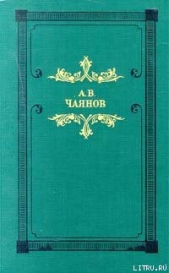Новеллы моей жизни. Том 2

Новеллы моей жизни. Том 2 читать книгу онлайн
В этой книге — как говорила сама Наталия Ильинична Caц — «нет вымысла. Это путешествие по эпизодам одной жизни, с остановками около интересных людей». Путешествие, очень похожее на какой-то фантастический триллер. Выдумать такую удивительную правду могла только сама жизнь.
С именем Н.И.Сац связано становление первого в мире театра для детей. В форме непринужденного рассказа, передающего атмосферу времени, автор рисует портреты выдающихся деятелей искусства, литературы и науки: К.Станиславского, Е.Вахтангова, А.Эйнштейна, А.Толстого, Н.Черкасова, К.Паустовского, Д.Шостаковича, Т.Хренникова, Д.Кабалевского и многих других.
В книге второй Н.И.Сац продолжает повествование о своем жизненном и творческом пути, рассказывает о создании Московского детского музыкального театра и его сегодняшнем дне.
Внимание! Книга может содержать контент только для совершеннолетних. Для несовершеннолетних чтение данного контента СТРОГО ЗАПРЕЩЕНО! Если в книге присутствует наличие пропаганды ЛГБТ и другого, запрещенного контента - просьба написать на почту [email protected] для удаления материала
Самые известные артисты Германии того времени играли в спектаклях Пискатора. Каждая его постановка была по-своему интересной — особенно, пожалуй, «Бравый солдат Швейк» с Максом Палленбергом в роли Швейка и «ожившими рисунками» Георга Гросса. Но все же я предпочитала романтику публицистике и в память сердца больше всего запали «Соперники». Только значительно позднее, когда я стала старше и, может быть, умнее, я поняла — через пьесы Бертольта Брехта, лучшего друга Пискатора, как важно уметь пробудить в зрителях не только чувства, но и мысль. А тогда, каюсь, я Пискатора недопонимала.
Встреч с Пискатором я не искала: он мне казался непростым и избалованным успехом. Рене была возмущена этой моей позицией, уверяя, что я должна ближе узнать Пискатора, побывать у него дома. Меня смешила ее настойчивость и энергия, когда она звонила к секретарю Пискатора, фрейлейн Хармс, и получала непроницаемо вежливый ответ:
— Алого, сцена Пискатора у аппарата. Что, будьте любезны?… Он до двух часов на репетиции, остальное пока неизвестно.
В следующий раз у Пискатора оказывалось срочное дело или заседание, но Рене с немецкой настойчивостью звонила еще и еще и даже восхищалась фрейлейн Хармс:
— Это ее обязанность создать порядок в жизни Пискатора: он у нас единственный. Она его обожает и знает — без немецкой точности в расписании он не сможет творить.
Наконец, аудиенция была мне назначена. Фрейлейн Хармс очень просила меня явиться к Пискатору в точно назначенное время и ровно через сорок три минуты попрощаться и выйти в переднюю, чтобы через сорок пять минут покинуть его квартиру.
— Пискатор может увлечься разговором с вами, а его время и силы так нужны немецкому театру! Прошу простить меня за это предупреждение, но русские — наши лучшие друзья, и я уверена, что вы правильно меня поймете.
Рене привезла меня к дому Пискатора, надела мне на левую руку свои часы (у меня таковых не было) и исчезла. Я поднималась по лестнице, обычной лестнице зажиточного немецкого дома, и никак не могла погасить ироническую улыбку. Мне открыла накрахмаленная горничная и попросила меня пять-десять минут подождать.
Двери во все комнаты квартиры были распахнуты — то ли по причине широкой натуры хозяина, то ли чтобы дать возможность пришедшему обозреть достопримечательности здешнего быта, а их было немало.
Занавески, абажуры, подушки, люстры, всякие там скатерти полностью отсутствовали… Светящиеся «полосы», вмонтированные в стены, заменяли лампы, низкая тахта — кровать… Я прошла в столовую, кабинет, спальню — никаких признаков привычного моему глазу уюта. Деловая современная обстановка, предельный лаконизм: низкие небольшие столики и табуретки, циновки на полу, застекленные шкафы в стенах — для многочисленных книг. Теперь такой интерьер — не редкость. Тогда же ничего подобного я еще не видела.
Вошел Пискатор, двубортно-застегнутый, в сером костюме. Раз уж пришла, поговорю с ним попросту.
— Мне кажется, что все в Берлине влюблены в вас, даже и те, кто ругает. Вы это чувствуете?
— Нет, бьют меня куда больше, чем гладят. Но я — спортсмен, знаю бокс и джиу-джитсу… В Берлине я — свой. Хотя мои предки итальянцы, «пескаторе» по-итальянски — рыбак. Более поздние предки офранцузились, стали гугенотами, потом осели в Германии. Мои деды — пасторы Пескаториусы. Мне была предуготована та же участь. Какой бы это было нелепостью!
Я стал приобщаться к театру. Играл четвертого гостя, второго школьники, невидимого духа, изображал лай собаки за сценой и постепенное. Мюнхен, я — практикант придворного театра, слушаю лекции по искусству.
— А когда вы стали на свой путь?
— Когда началась война. Мне было двадцать. Безумная суета, «добровольцы». Я — нет. Отвратительно, хотя воевать, хочешь не хочешь, придется. Но становление моего «я» шло бурно. Вот мои стихи тех дней — «Вспоминая его оловянных солдатиков».
Он достает тетрадь с пожелтевшими листами и читает:
— Спасибо, что вы мне это прочли. Теперь ваша постановка «Соперников» как бы получает корни, которые уходят в вашу биографию.
— Да, еще на войне я стал с помощью театра протестовать против войны, а потом — театр «Трибунал» в Кенигсберге, Пролетарский театр в Берлине…
Входит накрахмаленная горничная. Наверное, сейчас принесет чай, мы с ним согреемся, мне станет уютнее… Нет! Его зовут к телефону.
Мне потом объяснили, что угощать чаем в таких случаях здесь не принято. Не Москва. Взглядываю на часы. Так и есть: прошло сорок минут. Лимит отпущенного мне времени исчерпан. Двигаюсь по направлению к передней.
Беседой довольна. Но сколько в этой Германии противоречий, как уживается в этом большом художнике его размах с мелкими клеточками арифметической тетради?! Мы простились с Пискатором корректно, как вежливые созерцатели друг друга.
Через несколько дней Общество германо-советской дружбы предложило мне выступить с докладом о Московском театре для детей. Я уже не видела ни Берлина, ни его театров. Отключилась полностью. Какая ответственность! Постараюсь говорить по-немецки, хотя говорю неважно. И все же доверить переводчику свои мысли и образы нельзя. Между мной и слушателями не должно быть никого. И конечно, нельзя «читать» доклад; только говорить, ощущая аудиторию, а кто знает, какая она будет?
Это был мой первый доклад на иностранном языке. Волновалась. Меня утешали, что соберется, как всегда, человек тридцать, главным образом свои.
Пусть их будет всего лишь трое — все равно ответственно и страшно.
Помню, как вошла в зал Общества. Там сидели и стояли человек полтораста. Говорят, в первый момент я даже стала красной от волнения, но успокоилась, как только начала свой рассказ о родном театре, о ребятах, которые так его любят.
Я была только благодарна сидящим, что они с интересом слушают, мне стало легко и радостно. Рассказывала о наших спектаклях, о наших планах и поисках — доклад длился часа полтора-два. Только когда он был окончен, я заметила отдельных слушателей, батюшки, каких!
Архитектор профессор Гроппиус, архитектор Бруно Таут, Отто Клемперер, профессор (чудесный художник Кролль-оперы) Эвальд Дюльберг, Фридрих Вольф, Макс Гельц, Эрвин Пискатор…
Успех был большой. Конечно, успех самого театра, чудесной идеи, впервые воплощенной в Москве, а я просто информировала, подчас спотыкаясь на трудностях языка, но образы, живые образы театра как-то выводили опять на дорогу взаимопонимания.
К сожалению, мужа на моем выступлении не было — он сам готовил срочный доклад. Я задержалась, отвечая на вопросы журналистов, и была даже рада, что пойду домой одна. На сердце было хорошо. Ранняя весна. Так приятно ступать по влажному тротуару, глазеть на витрины запертых магазинов. Еще лучше, что они откроются только завтра — не надо огорчаться, что марок у меня нет и можно не спеша все рассмотреть.
Что бы я купила себе и друзьям, если бы у меня было много немецких марок? Это серебристое платье с мехом или то — розовое? Нет, лучше сиреневый костюмчик для сына, синий свитер…
Кто— то смеется? Не может быть! Нет, правда, Эрвин Пискатор стоит рядом. Откуда он тут взялся?
— Мне захотелось проводить вас, и я ждал на улице, — отвечает он.